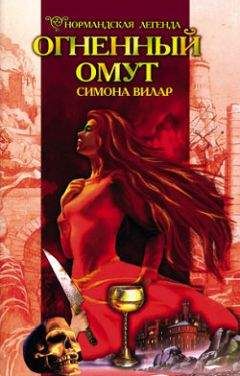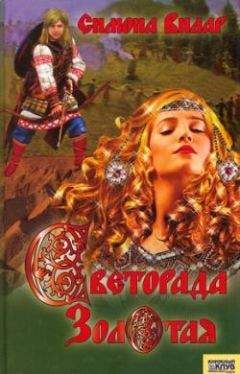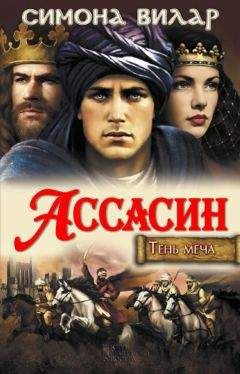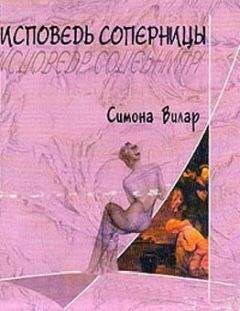Симона Вилар - Дикое сердце
— Тот, кто умер за нас на кресте, знает, как сильно я нуждаюсь в его милосердии. Ибо когда Тибо был заключен в подземелье аббатства, я сама вызвалась носить ему еду. И каждый день исправно брала ему пропитание на кухне. Цепные псы радостно виляли хвостами, когда я приближалась к ним с мисками в руках. Когда же я спускалась в подземелье, в мисках не оставалось ни крошки. А я стояла над каменным колодцем, куда был на веревке спущен Тибо, и слушала, как он умолял меня хоть о куске лепешки, хоть о глотке воды. Потом он лишь стонал, потом и вовсе затих. Но лишь через месяц я доложила, что бывший граф Шартра не отзывается на мои вопросы.
Эмма невольно перекрестилась. Молчала. Сверчок по-прежнему выводил свою трель, дождь монотонно стучал в окошко.
Весь октябрь лили дожди. Сено, скошенное на лугу, отсырело, и не было возможности его собрать. Листья облетали под порывами ветра. Стоя у окошка, Эмма глядела на непогоду и ждала вестей… ждала Ролло. Она не могла поверить, что он больше не признает ее. Но если бы так думала, то, кажется, не в силах была бы больше жить.
Дни текли серые, как небо за окном. Она вставала, отправлялась к заутрени. Потом вместе с монахинями шла в трапезную, и, пока они ели, какая-нибудь грамотная сестра читала нравоучительные жития. Потом у нее было свободное время, какое она предпочитала проводить либо с Геновевой в лекарне, где всячески помогала ей, либо шла на хозяйственные дворы, помогала на кухне, в кладовых.
Праздные руки королевы Нормандской давно отвыкли от работы, но с выздоровлением к ней возвращались силы, и она стремилась их к чему-нибудь применить, хоть как-то себя занять, чтобы не думать… Она
страшилась будущего, а вестей все не было… С неизвестностью приходила тоска и страх.
«Я убегу, я не могу больше ждать», — твердила она самой себе. Но бежать без провожатого, без денег, без одежды и лошадей было бы чистым безумием. Она бы затерялась в лесу, и, кто знает, накликала бы на свою голову новые беды. Не было возможности и смысла требовать, чтобы ее снарядили в дорогу — аббатиса Стефания начинала волноваться, едва Эмма даже спускалась из аббатства в долину.
Оставалось лишь ждать. Порой она вдруг начинала тешить себя мыслью, что Роберту все же удастся заставить Ролло креститься. И тогда их обвенчают перед алтарем, и все дурное будет забыто, и люди будут вновь почитать ее. И она снова окажется со своей семьей. Будет ли так?.. Поверит ли ей Ролло? А если нет…
Вести она получила лишь в день святых Симона и Иуды. На дворе было уже темно, и Эмма расчесывала волосы, готовясь ко сну, когда ее внимание привлек шум на улице. Она слышала беготню по галереям аббатства, голоса. Потом различила тягучий звук открываемых ворот и, наконец — явственно… цокот подков по — плитам двора. Торопливо одевшись и схватив свечу, она поспешила к выходу.
На улице густо моросил мелкий дождь. Одно мгновение, пока свет ее свечи отражался от мокрой поверхности плит двора, она видела всадников у ворот и встречающих их монахинь. Но тут свечу задуло порывом ветра, и ночь стала черна, как сажа. И все же она успела разглядеть епископа Гвальтельма, сходящего с высоких носилок. Тотчас она стремглав кинулась к воротам.
— Ваше преосвященство, есть ли какие вести для меня?
Дождь усилился. Епископ прошел под свод галереи и только тут остановился. При скудном свете фонарей в руках монахинь она различила его лицо. Он глядел на нее хмуро. Правда, Эмма не, помнила, чтобы его лицо освещалось радостью. Он медленно поднял руку и перекрестил ее ладонью, она преклонила колени и поцеловала его перстень.
— Преподобный отче…
— Позже. Я позову тебя.
— Дай хоть прийти: в себя с дороги его преосвященству, — суетилась Стефания
Тяжелая дверь закрылась со скрипом, как со стоном. Эмма осталась одна в кромешном мраке. Медленно опустилась на каменный выступ стены. Три месяца ожидания… и вот теперь она узнает свою судьбу. От волнения она почувствовала себя совсем ослабевшей. Сидела не шевелясь, чувствуя, как холод проникает под накидку, леденит ноги.
Пару раз выходили монахини, говорили, что епископ изволит трапезничать с матерью-настоятельницей. От большого сарая, где расположились сопровождающие Гвальтельма вавассоры, долетал шум, мелькали отблески огня. Эмме пришла было мысль пойти узнать хоть что-то у них. Но сил не было. И она боялась, как она боялась!
Показалось ей или нет, (но в ту минуту, когда при слабом свете фонарей она разглядела лицо Шартрского епископа, в глазах его явно читалось сочувствие. Но нет. По его лицу никогда ничего нельзя было прочесть. Он всегда был сух и мрачен. Даже с Дуодой. И с чего бы ему сочувствовать ей, Эмме? Правда, она уже узнала, что именно он поспешил доставить ее к Геновеве-целительнице. Да и разве их не связывало то напряжение на стене Шартра, где Гвальтельм не менее, чем она сама, рисковал своей жизнью, неся покрывало Богородицы? И все же… О небо! Что случилось? Что с Ролло? Нет, с ним ничего не может случиться… А если с ним все хорошо, то они встретятся. Она придет к нему, какие преграды бы ни встали на пути. И небо не оставит ее, если она не изменит самой себе, не сдастся.
Она совсем закоченела, когда появилась сестра-белица и сказала, что Гвальтельм кличет ее.
При свете небольшой свечи, огонек которой слабо освещал сводчатый проход, они прошли по коридору и поднялись по узкой лесенке. Сестра-белица отворила узкую дверь в толще стены, и Эмма, склонившись под низкой аркой, шагнула вперед. Она оказалась в довольно просторном покое со сводчатым потолком, опиравшимся на тяжелые колонны по углам. Вдоль стен стояли простые скамьи из темного дерева. На подиуме очага под колпаком рдела теплом куча раскаленных угольев. Перед ним стоял заставленный кушаньями стол, освещенный пятью белыми свечами в высоком подсвечнике.
Епископ сидел вполоборота к входу, и настоятельница лично подносила ему таз для омовения пальцев. Когда вошла Эмма, он даже не повернулся, но Эмме показалось, что, когда Стефания подавала ему полотенце, на ее устах промелькнула злорадная улыбка и она бросила на Эмму торжествующий взгляд.
Наконец Гвальтельм повернулся. Белая оборка его облегавшей голову шапочки странно контрастировала с его деревянным лицом. Оно ничего не выражало, взгляд был спокойным. Жестом он пригласил молодую женщину к столу.
— Садитесь, дитя мое.
Он сам налил ей в кубок темную густую жидкость из парадного кувшина аббатисы — серебряного с крышкой в форме головы дракона.
— Выпейте, Эмма. Это подогретый пигмент[43]. Вам надо согреться, ибо у нас будет долгий разговор.
Она машинально взяла кубок, отхлебнула и опять ожидающе устремила взгляд на Гвальтельма. Он тоже глядел на нее. Боже правый, он совсем не думал, что она выкарабкается, а вот надо же… Была ведь что труп. А вот теперь все так же хороша собой. Разве что исхудала и под глазами залегли тени. Но это только придает ее облику какую-то трогательность. Гвальтельм подумал, что ему жаль ее. Ибо сейчас, по сути дела, он собирался разбить ее надежды, навсегда лишить ее счастья. Счастья?.. Глупости! Эта женщина вела грешную, беспутную жизнь. Они и так собираются поступить с ней мягко. Куда лучше, нежели она заслуживает.