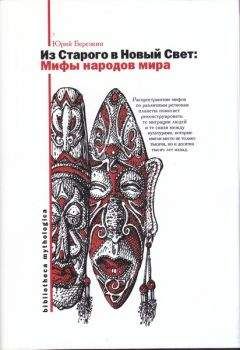Артур Янов - Первичный крик
Мой отец был кадровым офицером ВВС. Сейчас он, кроме того, пресвитерианский священник. Родился он в маленьком городке, в Индиане. Мать моя родом из штата Миссисипи.
Дома, как такового, у меня никогда не было. Самые ранние детские воспоминания связаны у меня с Японией — я помню, что там служил мой отец, а я однажды — в возрасте четырех лет — убежал из дома. После этого мы каждые один–два года переезжали с места на место в семейном «олдсмобиле», кото
рый служил ареной жестоких семейных ссор — неважно, ехали мы мимо аризонских кактусов или аляскинских тотемов. Машина была также местом, откуда я не мог убежать, когда мать решала побить меня за плохое поведение резиновым шлангом. Кончилось тем, что в Денверском мотеле я выбросил шланг в мусорный контейнер.
Такие путешествия могли быть непревзойденным удовольствием для мальчишки; иногда так и было, невзирая на то, что в жизни нашей семьи никогда не бывало счастливых моментов. Это было сплошное сражение — споры и борьба. Неважно, чего это касалось — какой мотель выбрать для стоянки, какую телевизионную программу смотреть, в каком ресторане остановиться и пообедать — все это становилось поводом для словесных перепалок. То же самое касалось моих личных пристрастий — что носить, с кем дружить, когда ложиться спать, как вести себя за столом и так далее. Мать всегда была настороже, и всегда успевала сказать, что именно она считает наилучшим образом действий. С неподражаемой интонацией она добавляла: «Если же тебе наплевать на мое мнение, можешь поступать, как знаешь!» Вот так‑то. Это был самый эффективный способ заставить меня делать то, что хотела она, и, мало того, быть таким, каким она желала. Понимаете, я заботился о маме (и о папе) так, как я не заботился о ком‑либо другом. Когда она говорит, что не верит, будто я люблю ее, то она тем самым говорит: «Нет смысла продолжать такие отношения» — то есть, и она «тоже» не будет меня любить, если я не стану таким, каким она того хочет. Это очень поганый выбор, но у мальчишки нет возможности торговаться. Итак, каждое решение, которое я принимаю, должно быть, прежде всего, одобрено моей мамочкой. Если ей не нравится то, что понравилось мне, то я просто должен найти способ скрыть свой чувства и придумать, как поступить так, чтобы мои действия пришлись ей по вкусу.
Моя мама не любит мужчин, мужчин с характером. Вот так. Я не могу быть мужчиной, несмотря на то, что подобно всем особям мужского пола родился с членом, хотя и маленьким. (Он, кстати говоря, так особенно и не вырос, по крайней мере, пока.) Со всей своей повседневной, подкрепленной разумными словами напористостью мать очень удачно воспитала из
14 — 849
меня трансвестита. Я рано понял ее намек: «Мама не любит меня, то есть, она не любит меня таким, какой я есть. Она любит меня, когдая становлюсь таким, каким она хочет». Не надо особенно много менять, когда тебе четыре, пять или даже семь лет, за исключением половой принадлежности; не надо менять мир и основополагающие теории, когда можно просто измениться самому. Так…
Вместе с таким изначально и всю жизнь действовавшим фактором моего воспитания, я постоянно испытывал страх перед нависавшим в прошлом и маячившим в будущем призраком развода. Этот призрак пугал меня на протяжении всех двадцати двух лет моей жизни. (Родители, наконец, окончательно развелись теперь, когдая заканчиваю курс лечения. Они очень долго боролись друг с другом.) Однажды, когда мы жили в Техасе и мне было семь лет, отец пришел домой слегка навеселе. Маме же показалось, что он вдребезги пьян. Она страшно разозлилась и принялась сначала ругать, а потом и бить папу. Потом она упала на пол, разрыдалась и стала кричать, что не хочет, чтобы в один прекрасный день отец также ее избил, и поэтому она хочет развестись. Мне было очень страшно, но я находился рядом с ними в течение всей ссоры. Эти двое, правда, едва ли замечали мое присугствие. Я даже становился между ними, хватал их за пояса, просил прекратить ссору, поцеловаться и помириться. Я был уже большой и понимал значение слова развод — оно означало разлуку. Это ужасно напугало меня. Я говорил: «Мама, что же будет со мной? Как же я?» Мама, невозмутимо укладывая чемодан, ответила: «Я не знаю». В тот момент ни ей, ни отцу не было до меня вообще никакого дела. Я бродил вокруг дома, прижимая к груди игрушечную лошадку и причитал: «Что будет со мной? Что будет…» и т. п. Вот так я бродил и причитал постоянно, вплоть до первичной терапии.
Когда на следующий день я вернулся из школы, где все утро раздумывал, с кем я «пойду» (естественно, с мамой), то обнаружил, что все утряслось. (Стало, как было — хорошо и нездорово.) Папа поклялся, что «это никогда не повторится» (бедняга), а мама осталась дома. На протяжении следующих пятнадцати лет эта сцена неоднократно разыгрывалась перед моими глазами, и всегда возникал страх разлуки, которая так и не
наступила; но угроза ее всегда витала надо мной, волнуя и вселяя страх.
Я мало говорю о папе, потому что папы почти никогда не было дома. Я ненавидел его, потому что он не защищал меня от маминых нападок. Но я нежно и преданно любил его в те немногие минуты, когда мы были вместе. Папа и я очень хотели любить друг друга, но боялись выказать свои чувства, так как они причиняли нам сильную боль.
Страдая неврозом и живя в такой семье, я был вынужден вытеснять подальше мои чувства. Внешне я был силен и независим. Трансвеститы — это не такая замкнутая группа, как обычные гомосексуалисты. Между ними есть разница. Я был очень одиноким и очень активным мальчишкой. Я так боялся девочек, что свою первую подружку я осмелился поцеловать на прощанье только когда учился во втором классе средней школы и только на тринадцатом свидании. Надо еще учесть — и это важно — что она была старше меня.
Я боролся изо всех сил, и это помогало мне хоть как‑то держать в узде мое напряжение, но мне приходилось соблюдать осторожность в отношениях с мамой, потому что она в любой момент могла меня поймать. Она не терпела, когда я начинал чувствовать свой член.
К окончанию второго класса я обнаружил, что не только хорошо умею говорить и высказывать свои мысли, чему я научился в словесных баталиях с мамой, но и умею очень быстро бегать. В конце первого года пребывания в команде юниоров я стал первоклассным спринтером и начал встречаться с девушками. К концу второго года я снова стал уверенным в себе, выступил с речами на выпускном торжестве, стал победителем конкурса молодых ораторов штата, начал писать. Я пылал энтузиазмом, мне была открыта прямая дорога в колледж. Но я чувствовал себя несчастным и жалким. Практически всегда, когда мамы не было дома, я тайком наряжался в ее одежду — лифчик, чулки, трусики и т. д. В своем воображении разыгрывались яркие фантазии. Если бы я был таким, то мама непременно полюбила бы меня. Это была хоть и воображаемая, но весьма тухлая сделка — мягко выражаясь; кроме того, это был
не самый подходящий способ полноценно ощутить, наконец, половой член.
Такую свою активность я успешно подавлял в колледже. Я держал свои фантазии при себе и упорно трудился, как и все другие. Учебная нагрузка была так тяжела, а атмосфера так наэлектризована, что очень скоро даже самое усердное старание перестало помогать. Я едва успевал в учебе. То есть, держаться на уровне было так болезненно и тяжело, что колледж нисколько не помогал сбросить внутреннее напряжение. Но мои побочные занятия помогли мне вступить в хорошее братство, и на следующий год передо мной замаячила хоть какая‑то благоприятная перспектива. Оценки, правда, были неважными — тройки с плюсом и четверки с минусом. Ни престижа, ни внимания, ни облегчения от чувства одиночества и собственной никчемности и незначительности.
К концу второго курса я стал активистом. Руководитель группы оказался твердолобым фанатиком. Он выгнал из нашей команды одного иностранного студента за то, что у него была прическа, как у битлов. Еще одно крушение иллюзий. Я был посредником. Меня мучило напряжение, боль и недомогания от членства в группе активистов, и от всей прочей ерунды, которой меня потчевали в колледже.
В то лето у меня впервые в жизни появилась настоящая подруга. Она стала первым человеком, с которым я позволил себе свободное изъявление чувств. Но я так и не решился даже попросить ее отдаться даже в те моменты, когда мы лежали в постели, и она держала в руках мой напряженный член. Я хотел, чтобы девушка дала мне почувствовать мой половой член, но я хотел, чтобы это не было сопряжено с опасностями всякого рода, и она позволила мне это. Но такие отношения грозили обернуться бурей. В течение полугода мы отчаянно боролись за какое‑то постоянство и стабильность в этом взаимном облегчении давившего на нас обоих напряжения. Но увы, она свалила всю тяжесть ответственности на меня. Мне больше не на что было опереться, и я едва не сошел с ума. Я был настолько сильно напуган, что бросил колледж и начал на манер Кьеркегора писать дневники, а 1а Боб Дилан, Кен Кизи е1 а1. Я испытывал такое непомерное напряжение, что писания о мифах,