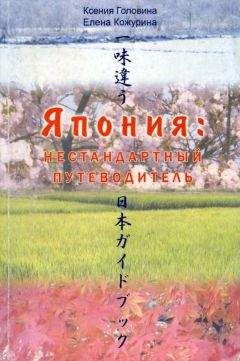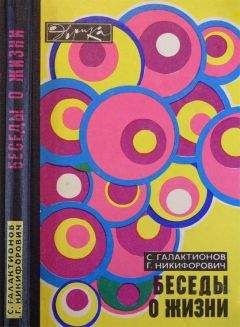Охота на электроовец. Большая книга искусственного интеллекта - Марков Сергей Николаевич
Благодаря своему открытию Гольджи увидел, что разветвлённые отростки одного клеточного тела не сливаются с другими. Он, однако, не стал отбрасывать концепцию Герлаха, предположив, что длинные тонкие отростки, вероятно, соединены в одну непрерывную сеть.
Четырнадцать лет спустя, в 1887 г., испанский нейроанатом Сантьяго Рамон-и-Кахаль узнал о «чёрной реакции» от психиатра Луиса Симарро, которому удалось улучшить оригинальную технику Гольджи. Рамон-и-Кахаль был удивлён тем, что лишь немногие исследователи используют этот замечательный способ исследования нервной системы. Ещё более усовершенствовав метод Гольджи, Рамон-и-Кахаль применил эту технику к различным типам нервной ткани животных и людей и выполнил подробные зарисовки того, что увидел под микроскопом.
Исследования испанского учёного показали, что, вопреки концепции Герлаха и предположению Гольджи, длинные тонкие отростки, выходящие из тел клеток, вовсе не связаны в единую сеть. Хотя многие волокна в образце ткани накладывались друг на друга, они оставались отдельными физическими структурами, подобно ветвям деревьев в лесной чаще. Нервная система, как и все другие живые ткани, состояла из отдельных элементов, как выразился сам Рамон-и-Кахаль — из «абсолютно автономных единиц».
В октябре 1889 г. Рамон-и-Кахаль посетил конгресс Немецкого анатомического общества в Берлине, чтобы представить свои открытия ведущим нейроанатомам. Хотя многие учёные издевались над Рамоном-и-Кахалем и его зарисовками, презентация учёного смогла убедить уважаемого швейцарского гистолога Рудольфа фон Кёлликера. В 1891 г. немецкий анатом Генрих Вильгельм Вальдейер объединил новаторское исследование Рамона-и-Кахаля с клеточной теорией и идеями швейцарского психиатра Огюста-Анри Фореля, а также с идеями швейцарского эмбриолога Вильгельма Гиса (именно он в 1889 г. предложил называть тонкие ветвящиеся отростки нервных клеток дендритами, от греческого слова δένδρον — дерево). В итоге на свет появилось то, что сегодня носит название нейронной доктрины. Именно Вальдейер назвал нейронами клетки, из которых состоит нервная система. В 1896 г. фон Кёлликер ввёл термин «аксон» для обозначения длинных тонких отростков, передающих электрические сигналы от тела клетки (направление передачи сигналов, основываясь на своих наблюдениях, установил Рамон-и-Кахаль) [947].
В 1906 г. Рамон-и-Кахаль и Камилло Гольджи за труды по строению нервной системы получили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины [948].
До наших дней дошло около трёх тысяч зарисовок Рамона-и-Кахаля [949], которые и сегодня остаются одними из самых подробных описаний структурного разнообразия мозга и нервной системы.

4.2.2 История исследований электрической активности мозга
Впрочем, и до открытий Гольджи, Рамона-и-Кахаля и их коллег нейроанатомам было известно, что клетки серого вещества [950] связаны между собой нервными волокнами. Отталкиваясь от знания об электрической природе нервных импульсов, было весьма естественно предположить, что электрическая активность будет наблюдаться и в полушариях мозга. Однако в то время это предположение не удавалось подтвердить, потому что множество десинхронизированных потенциалов с разными полярностями производят очень слабый совокупный потенциал, который было трудно обнаружить доступными в то время измерительными устройствами. Несмотря на это, фон Марксову удалось показать, что периферическая стимуляция сенсорных органов способна вызывать небольшие колебания электрического потенциала в областях поверхности коры головного мозга, отвечающих за проекцию соответствующих чувств.
К сожалению, исследования фон Марксова были прерваны из-за его трагической смерти в 1891 г. В юности, работая в качестве ассистента известного патологоанатома Карла фон Рокитанского, фон Марксов в процессе препарирования трупа поранил большой палец правой руки. Заражение привело к ампутации пальца, и всю последующую жизнь фон Марксов страдал от хронических болей, которые утолял при помощи инъекций морфина и героина. Зигмунд Фрейд, близкий друг фон Марксова, в конце XIX в. изучал медицинские свойства кокаина и был убеждён, что кокаин может быть использован не только в качестве средства, вызывающего эйфорию, афродизиака и болеутоляющего средства, но также и для лечения морфинизма. Он порекомендовал его фон Марксову, который принял совет друга. Увы, кокаин лишь усугубил состояние учёного. Опустошённый болью, зависимостью и болезнью, он снова начал принимать морфин. В итоге здоровье фон Марксова не выдержало, и он скончался 22 октября 1891 г. в возрасте 45 лет [951], [952].
На мир нейробиологии сильно повлияло ещё одно открытие 1870-х гг. В совместном исследовании 1870 г. Густав Фрич и Эдуард Гитциг продемонстрировали возможность электрической стимуляции коры головного мозга. Фрича побудило к исследованиям необычное наблюдение: в ходе Австро-прусско-датской войны (в 1864 г.) он наблюдал сокращения мышц пациента во время перевязки открытой раны головного мозга [953]. Работы Фрича и Гитцига были продолжены Дэвидом Ферье и Джеральдом Йео в 1880 г., которые выполняли электрическую стимуляцию головного мозга обезьян, а также пациента во время операции по поводу опухоли головного мозга.
Исследования электрической активности мозга на границе XIX и XX вв. активно велись и на территории Российской империи. Их начал Василий Данилевский — ему исполнилось всего 25 лет, когда он защитил написанную в Харьковском университете диссертацию, озаглавленную «Исследования по физиологии мозга». Эта работа была основана на электростимуляции, а также на изучении спонтанной электрической активности мозга животных [954].
Данилевский проводил исследования на мозге собак. Независимо от Катона он обнаружил изменения электрических потенциалов в мозге в ответ на воздействие звуковых раздражителей и при электрическом раздражении седалищного нерва. Данилевский также отмечал, что у собаки наблюдались «самостоятельные или спонтанные токи мозга», хотя животному не предъявлялось никаких внешних раздражений. Слуховые стимулы вызывали отрицательное или положительное колебание в задних областях полушарий, а раздражение кожных нервов — в передних. Аналогичные реакции в коре мозга наступали и при раздражении ветвей блуждающего нерва током, а также если обонятельные рецепторы собаки подвергались воздействию различных запахов (аммиака, амилнитрита, жареного мяса).
Данилевский писал: «Процессы возбуждения, возникающие в большом мозге под непосредственным влиянием внешних чувственных раздражений, сопровождаются характерными электродвигательными явлениями. Поэтому мы вправе признать, как наиболее вероятную, гипотезу, что физиологическая функциональная деятельность нервных мозговых (и других) клеточек также тесно связана с проявлением электрической реакции, как это уже признано для нервного волокна. Таким образом, изучение электрических явлений в головном мозге даёт возможность исследовать те объективные материальные процессы, которые представляют собой субстрат для субъективных психических явлений» [955], [956].
После защиты диссертации Данилевский стажируется за границей — в лабораториях немецкого физиолога Карла Людвига и французского физика и физиолога Жака Арсена Д’Арсонваля, одного из основателей биофизики. В зрелом и позднем возрасте фокус исследований Данилевского смещается в сторону эндокринологии. По его инициативе в 1919 г. Харьковским медицинским обществом основано первое в советской республике учреждение эндокринологического профиля — Органотерапевтический институт. Четыре года спустя именно в этом учреждении было налажено первое в СССР производство инсулина [957], [958].