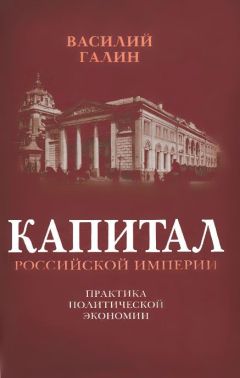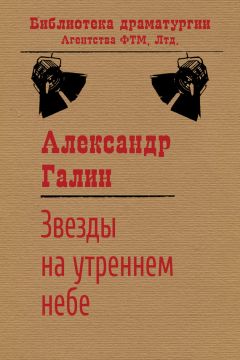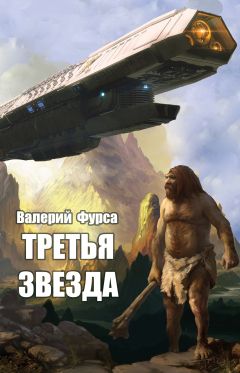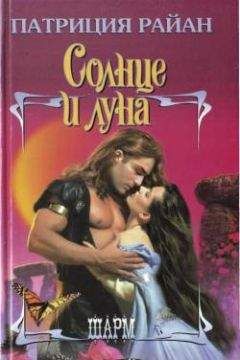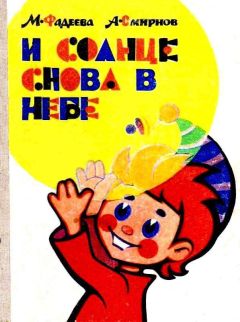В. Галин - Капитал Российской империи. Практика политической экономии
В. Ключевский в этой связи замечал: «Чужой западноевропейский ум призван был нами, чтобы научить нас жить своим умом, но мы попытались заменить им свой ум»{738}.
Именно европейское образование дворянства, по мнению Ф. Достоевского, привело к расколу русского общества: «Для вас преобразователь оставил народ крепостным, что бы он, служа вам трудом своим, дал вам средство к европейскому просвещению примкнуть. Вы и просветились в два столетия, а народ от вас отдалился, а вы от него»{739}. Новое «образованное» российское общество теперь взирало на русский народ с высоты своего просвещенного «западного» ума. Особенности этого взгляда наглядно передавал А. Пушкин:
Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды чистый свет увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.
Но решающее влияние на формирование нового либерального сословия в России оказала отмена крепостного права. Именно недовольные потерей своего помещичьего привилегированного положения и скептические отцы, равнодушные ко всему насущному, прожившие последние выкупные, по словам Ф. Достоевского, и воспитали следующие поколения: «Юные люди наших интеллигентных сословий, развитые в семействах своих, в которых всего чаще встречайте теперь недовольство, нетерпение грубость невежества (несмотря на интеллигентность классов) и где почти повсеместно настоящее образование заменяется лишь нахальным отрицанием с чужого голоса, где материальные побуждения господствуют над всякой другой высшей идеей; где дети воспитываются без почвы, вне естественной правды, в неуважении или равнодушии к отечеству и в насмешливом презрении к народу, так особенно распространяющемуся в последнее время… Вот где начало зла»{740}. Ф. Достоевский констатировал, что уже тогда «произошел окончательный, нравственный разрыв» интеллигенции с народом{741}.
В. Ключевский называл российских либералов межеумками — барами, впитавшими идеи передовых французских мыслителей, но при этом так и оставшихся русскими барами, оторванными «от действительности, от жизни, которой живет окружающее их общество, (и) они создают себе искусственное общежитие, наполненное призрачными интересами, игнорируют действительные интересы, как чужие сны, а собственные грезы принимают за действительность»{742}. П. Вяземский замечал, что либералы «… верить в сны свои готовы. С слепым доверьем детских лет». Характеристика Ф. Достоевского, данная отдельным представителям этого нового поколения, дополняла общую картину: это был «межеумок, с коротенькими, недоконченными идейками, с тупой прямолинейностью суждений, для него история наций слагается как-то по-шутовски. Он не видит, даже не подозревает того, чем живут нации и народы»{743}.
Именно эта образованная либеральная интеллигенция и сформировала в 1905 г. партию кадетов. Ее сущность, пожалуй, наиболее точно была отражена в меморандуме, составленном кружком сенатора Римского-Корсакова: «Демократическая по названию, она по составу является чисто буржуазной, не имеет собственной платформы, а потому вынуждена поддерживать лозунги левых… Без союза с левыми, без козырей, вынутых из чужой колоды, кадеты представляют собой всего-навсего большое сборище либеральных юристов, профессоров, министерских чиновников и ничего более»{744}.
Подобное мнение высказывал и министр внутренних дел России П. Дурново: «За нашей оппозицией (имелись в виду думские либералы. — В. К.) нет никого, у нее нет поддержки в народе… наша оппозиция не хочет считаться с тем, что никакой реальной силы она не представляет»{745}. По словам Н. Бердяева: «Либеральное движение было связано с Государственной Думой и кадетской партией. Но оно не имело опоры в народных массах, и лишено было вдохновляющих идей»{746}. По меткому замечанию лидера эсеров В. Чернова, кадеты представляли собой лишь «штаб без армии»{747}.
Либералам действительно не на кого было опереться, поэтому им оставался только вынужденный союз с левыми, идейно же либералы его полностью отвергали. Сам лидер кадетов П. Милюков в этой связи с гордостью говорил в 1905 г.: «Я организовал в России первую политическую партию, которая совершенно чиста от социализма»{748}. «Этой “чистотой от социализма” — отмечал М. Горький, — кадеты и… гордятся, а так как демократия не может быть не социалистична, то естественно, что кадетизм и демократия — органически враждебны»{749}. Кадеты называли себя приверженцами демократии, в смысле политической принадлежности идеалам Запада, но в реальных условиях России они становились ее врагами.
На истоки российского либерального антидемократизма указывал Н. Чернышевский, который еще в 1858 г. писал: «Либералов совершенно несправедливо смешивают с демократами… Демократ из всех политических учреждений непримиримо враждебен только аристократии, либерал почти всегда находит, что при известной степени аристократизма общество может достичь либерального устройства. Поэтому либералы обыкновенно питают к демократам смертельную неприязнь… Либерализм может казаться привлекательным для человека, избавленного счастливою судьбою от материальной нужды <…> либерал понимает свободу формально — в разрешении, в отсутствии юридического запрещения, он не хочет понять, что юридическое разрешение для человека имеет цену только тогда, когда у человека есть материальные средства пользоваться этим разрешением»{750}.
Наглядный пример либеральной демократии давала французская революция 1848 г., о которой А. Герцен в работе «С того берега» писал: «Либералы долго играли, шутили с идеей революции и дошутились до 24 февраля. Народный ураган поставил их на вершину колокольни и указал им, куда они идут и куда ведут других; посмотревши на пропасть, открывшуюся перед их глазами, они побледнели; они увидели, что не только то падает, что они считали за предрассудок, но и все остальное, что они считали за вечное истинное; они до того перепугались, что одни уцепились за падающие стены, другие остановились кающимися на полдороге и стали клясться всем прохожим, что они этого не хотели. Вот отчего люди, провозгласившие республику, сделались палачами свободы, вот отчего либеральные имена, звучавшие в ушах наших двадцать лет, являются ретроградными депутатами, изменниками, инквизиторами.
Они хотят свободы, даже республики в известном круге, литературно образованном. За пределами своего круга они становятся консерваторами… Либералы всех стран, со времени Реставрации, звали народы на низвержение монархически-феодального устройства во имя равенства, во имя слез несчастного, во имя голода неимущего; они радовались, гоняя до упаду министров, от которых требовали неудобоисполнимого, они радовались, когда одна феодальная подставка падала за другой, и до того увлеклись наконец, что перешли собственные желания. Они опомнились, когда из-за полуразрушенных стен явился не в книгах, не в парламентской болтовне, не в филантропических разглагольствованиях, а на самом деле пролетарий, работник с топором и черными руками, голодный и едва одетый рубищем… Либералы удивились дерзости и неблагодарности работника, взяли приступом улицы Парижа, покрыли их трупами и спрятались от брата за штыками осадного положения, спасая цивилизацию и порядок!»
В России во время Первой русской революции ситуация повторилась почти в точности: «…Аристократический либерализм улетучился сейчас, как только встретился с либерализмом голодного желудка русского народа. Вообще, — отмечал С. Витте, — после демократического освобождения в 60-х годах русского народа <…> между высшим сословием Российской империи появился в большой дозе западный либерализм. Этот либерализм выражался в мечтах о конституции, т.е. ограничении прав самодержавного государя императора, но в ограничении для кого? для нас, господ дворян. Когда же увидели, что в России, кроме монарха и дворян, есть еще народ, который также мечтает об ограничении, но не столько монарха, как правящего класса, то дворянский либерализм сразу испарился»{751}.
Об одном из лидеров праволиберальной партии октябристов С. Витте писал: «г. Гучков… исповедовал те же идеи, был обуян теми же страстями <…>, а как только он увидал народного “зверя”, как только почуял, что, мол, игру, затеянную в “свободы”, народ поймет по-своему, и именно, прежде всего, пожелает свободы не умирать с голода, не быть битым плетьми и иметь равную для всех справедливость, то в нем, Гучкове, сейчас же заговорила “аршинная” душа, и он сейчас же начал проповедовать: государя ограничить надо не для народа, а для нас, ничтожной кучки русских дворян и буржуа-аршинников определенного колера»{752}.