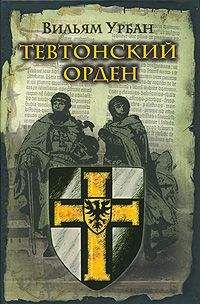Милош Урбан - Семь храмов
Сейчас мы обязаны отсрочить миг гибели. Замедлить развитие. Остановить его, заморозить. Монархия предлагает медленное плавное течение, уважение к старине, любовь к традициям. Неизменность. Порядок. Покой. Тишину. Время. Океан Времени. Золотой век монархии всегда знаменовал собой лучшие отрезки нашей истории. Четырнадцатый век — и сразу после этого век девятнадцатый. Ах, если бы я, подобно вам, умел в любой момент возвращаться в них! Вы не представляете, как жалею я о том, что родился так поздно — среди этого ада мучительной электронной техники. Но я хочу рассказать вам о клубе, в который мы нынче вас принимаем. Пожалуйста, ешьте, вечер нам предстоит длинный.
Он взглянул на часы и дважды нетерпеливо стукнул тростью о пол. Я воспринял это как приглашение к трапезе. Только сейчас я осознал, какой болью отзываются во мне бесконечные голодные часы, проведенные в чердачном заключении.
Стол прогибался под тяжестью серебряных подносов, изумительной красоты соусников и салатниц, наполненных разнообразными кушаньями. Речи рыцаря разозлили меня, но одновременно и сладко убаюкали, и аппетит я не потерял. Я знал, что с набитым животом возражать трудно, но разве я намеревался возражать?
У меня был полон рот слюны, однако непривычный вид кушаний требовал осторожности. Для начала я подивился непрозрачному заливному, которое пахло рыбой и в котором я обнаружил кусочки лосося; оно понравилось мне не слишком. Потом мое внимание привлекла темная, почти черная каша, смешанная с квашеной капустой и благоухающая гвоздикой, тимьяном и винным уксусом. Я осторожно попробовал ее, но она оказалась такой кислой, что я невольно поморщился. Прунслика, неотрывно за мной следившего, это явно обрадовало, и радость его только увеличилась, когда я замер в задумчивости над следующей миской. В ней лежали три целые рыбы — кажется, уклейки — глубоко погрязшие в белой пасте, так что создавалось впечатление, будто ты смотришь на них сквозь замерзшую гладь озера. Их обступили неправильным кругом блестящие оранжевые шарики, в которых я узнал ягоды рябины. Когда я набрал эту прозрачную массу на кончик ножа и лизнул ее, то понял, что это — свиной жир. Рыбы мне больше не хотелось. Я быстро приподнял крышку керамического блюда, стоявшего особняком, и мгновенно с грохотом вернул ее на место. Мой испуг был оправдан: из лукового соуса на меня глянула пустыми глазницами баранья голова с витыми желтыми рогами.
После долгих колебаний (которые иной хозяин мог бы счесть оскорблением, однако Гмюнд лишь снисходительно улыбался) я наобум ткнул вилкой в маленькую шишковатую котлетку, опустил ее в черно-фиолетовый соус и положил в рот. Вкус у котлетки оказался весьма необычный. Красное мясо не прошло через мясорубку, оно было лишь слегка отбито и сильно приправлено специями, я узнал можжевельник, шафран и, кажется, аирный корень. Таинственная, давно позабытая кухня предков.
— Как я вижу, вам это пришлось по вкусу, — похвалил меня Гмюнд, хотя мой рот свело оскоминой от многочисленных приправ, — вы быстро привыкаете. Это хороший знак, ведь скоро вам предстоит есть такую пищу изо дня в день; разумеется, ее будет поменьше, не то вы станете спать дольше, чем нам требуется. — Он рассмеялся без улыбки и продолжал: — Не заставляйте себя потчевать и ешьте и пейте, это «Шато-Ландо» превосходно. Позвольте Раймонду налить его вам. Видите вот эти рубиновые искры?
Вино было и впрямь изумительным. Однако я старался следить, чтобы оно не вскружило мне голову. Я кивнул Гмюнду поверх бокала, и он заговорил снова:
— Члены нашего братства были людьми зажиточными, но присоединиться к нам мог любой. Вас, милый мой демократ, это должно заинтересовать. Поначалу дела наши шли ни шатко ни валко, и нас была только горстка: четыре гетмана. А потом… всего три. Однако эта троица собрала вокруг себя сорок братьев, мы выросли больше, чем вдесятеро! Покровительство нам оказывал сам король и император Вацлав IV; возможно, именно поэтому возведение часовни заняло у нас всего одиннадцать лет, хотя обычно храмы Нового Города строили в три, а то и в пять раз дольше, некоторым же из них не повезло настолько, что их так и не закончили — например. Деву Марию Снежную.
Готический храм Тела Господня, сначала деревянный, а позже одетый камнем, имел в плане то ли восьмиконечную звезду, то ли сложный многогранник с крестообразным основанием, симметричным относительно оси «вход — пресбитерий». Фундамент имел форму зубчатого колеса — вот почему сегодня нам никак не удается установить первоначальный вид постройки. Неясно и то, сколько именно лучей служило боковыми часовнями, пять, шесть или же все семь — исключая нишу, где был вход. Ничто в мире не могло и не может сравниться по красоте с храмом Тела Господня. Если вы хотите составить себе хотя бы приблизительное представление о его великолепии, изяществе и изысканности, то объедините мысленно карловский храм с виллой «Звезда»[55] и добавьте к этому монументальность Краловской часовни в Ахене. Или по-другому: представьте не одно строение, а целый городок, ощетинившийся остроконечными башенками, повсюду сплошные выступы и возвышения, а между ними темные уголки, настоящая симфония пирамидальных и конусообразных вертикалей, льнувших, словно овцы к пастуху, к мощной четырехгранной башне с высокой шатровой кровлей.
Наш храм предназначался для того, чтобы в нем хранились святые мощи, им приходили поклониться толпы паломников со всех концов страны, из Бранденбурга и из Польши, да что там — из всей Европы. Посетить часовню Святого Тела и Крови Господней и Девы Марии, как она тогда именовалась, было делом чести любого доброго христианина. В праздничные дни, объявленные императором, Скотный рынок бывал переполнен, и часовня возвышалась над толпой, уподобляясь незыблемому и прочному острову среди бегущих вод.
Потом наступили времена хотя и столь же славные, но нелюбезные мне. В третьем году несчастного пятнадцатого века наше братство даровало храм университету, даровало по доброй воле, однако неразумно. Очень скоро там начали причащать под обоими видами и вдобавок провозгласили эти позорные компактаты.[56]
— Мне это известно. Их, словно заповеди Моисея, выбили на двух каменных досках, а буквы позолотили.
— Ужасно, правда? А потом эти доски вделали в храмовую стену! Какое поругание; Карл наверняка в гробу перевернулся.
— И перевернулся он дважды, потому что позже там проповедовал Мюнцер.
— Этот Фома неверующий! Этот злопыхательский пантеист! Этот немецкий Иуда! Браво, Кветослав, вы словно читаете в моем сердце. Мы наверняка найдем общий язык. — Рыцарь из Любека радостно пожал мне правую руку. Тут же подскочил Прунслик и пожал левую. Его сумасбродства перестали уже меня удивлять.