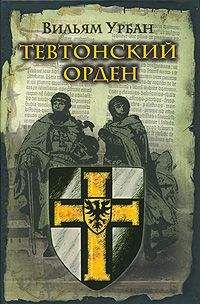Милош Урбан - Семь храмов
— Камень — да. Он всегда рассказывал мне больше, чем учебники. Я рад, что вы тоже заметили это. Это доказывает, что я не совсем невменяем.
— Вот, значит, что вас пугало. Как трогательно. Правда, Кветослав трогателен, Раймонд?
Прунслик скосил на меня свои жестокие глаза и ехидно заметил:
— Он трогателен, как ягненок. Вообразите только — за все то время, что он провел в висячей яме, куда его сбросила собственная неловкость… которой мы, не будем скрывать, немного помогли… ему ни разу не пришло в голову воспользоваться рацией, лежавшей в кармане его грязного дождевика. По-моему, рыцарь, он безусловно на нашей стороне.
— Как же мне приятно это слышать! Итак, мы с вами входим в один круг, верно? И он замкнулся. Круг, кстати сказать, один из наших символов. Обруч и молоток — вот эмблема братства.
— Ну знаете! — не выдержал я. — А вам не кажется странной эта игра в масонов?
Он пропустил мое неуместное замечание мимо ушей и продолжал:
— В начале семидесятых годов четырнадцатого века четверо верных сподвижников императора Карла, его ближайшие советники, решили объединиться. Но произошла трагическая ошибка — и один из них погиб. Вскоре после этого император умер, и начались споры: что же послужило главной причиной его смерти? Теперь-то я знаю: скорбь об этой утрате. Извините, мне тяжело говорить об этом — ведь я узнал правду совсем недавно, причем благодаря именно вам. Три оставшихся гетмана основали братство. Их сподвиг на это целый ряд обстоятельств, и первейшим желанием этих благородных мужей было возводить в Праге храмы Господни, которые своим и величием и красотой порадовали бы почившего императора. Они называли себя продолжателями его дела. Часовня Тела Господня была задумана еще Карлом, но при нем на Скотном рынке появилась только деревянная башня, смутный намек на позднейший каменный шедевр. И такова была судьба большинства Карловых замыслов: он успел реализовать лишь горстку из них, а прочие унес с собой в могилу. Мы обязаны неустанно отдавать дань уважения его памяти: без него не было бы ни вас, ни меня, ни нашего города. Ни Братства Тела Господня.
— Я мог бы догадаться. Епископский кафедральный собор в Страсбурге, Кельнский собор — их же построили масоны! Значит, вы хотите уверить меня, что часовня Тела Господня тоже была сооружена ими?
— Вовсе нет, никакие мы не масоны, никакие не вольные каменщики. Мы свободны в тех границах, что определяет нам Бог, государь и круг — один из наших символов. Он означает, что мы обязаны охранять постройки, воздвигнутые нашими предками.
— Кажется, вы говорите об охране памятников культуры. Но кого же вы числите вашим государем?
— Должен признаться, что с государем в последнее время дело обстояло не лучшим образом. Но положение вот-вот исправится. Что же касается охраны — вы и сами догадались, о каких храмах идет речь.
— Я насчитал шесть.
— Шесть? Вы всерьез думаете, что мы могли бы выбрать это дьявольское число?
— Да, я знаю, что их семь. И могу даже назвать этот последний. Несуществующая часовня Тела Господня.
— Надо же, — проворчал Прунслик и отвесил шутовской поклон.
— Я знал, что вы наш, — радостно сказал Гмюнд. — Знал с самого начала. Обруч с подвешенным внутри молотком, циферблат с часовой стрелкой, часы с маятником; бесконечное Время и прибор, делящий его на отрезки, равные человеческим жизням. Вам никогда не снился такой сон?
— Снился. Но это был не сон… а что-то другое.
— Ваша уникальная способность видеть прошлое. В поисках таких, как вы, я объездил весь мир, и в конце концов нашел вас, лучшего из вам подобных, на древней родине моих предков. Не верю, что это простая случайность.
— Не понимаю, как вы сумели отыскать меня.
— Мне помогла Розета. Она почувствовала это в вас. У нее тоже есть подобный дар — сны, зарождающиеся в вашем и ее сознании, объясняются одной и той же причиной; так, во всяком случае, утверждает некая средневековая теория. Это дурные сны, и все же они истинны. Ваше второе, сокровенное, осязание помогает вам отличать правду от лжи, и правда открывается вам в словах и образах. Такие же видения посещали святого Августина, в своем трактате их описывал Исидор Севильский.[54] Ничто не ново под луной.
— Обруч и молоток — такие символы мог избрать только тоталитарный режим.
— Милый мой мальчик, — веско произнес Гмюнд — вам придется смириться с тем, что наше братство всегда было против демократических принципов. Наш путь ведет назад. Нет, не в ад, только суеверные люди боятся этого — они привыкли к прогрессу, будучи уверены в том, что можно двигаться лишь вперед. Заблуждение, достойное сожаления. Необходимо открыть им глаза.
— И как же это представляет себе ваше братство? Люди не должны жить свободно?
— Свободно! — рявкнул он возмущенно. — А что такое свобода? Оковы, которые мы не видим; вот почему мы то и дело спотыкаемся, вот почему то и дело падаем. Я предлагаю лучшую жизнь в феодальной стране, единолично управляемой государем, которого для начала изберут. Пускай плебс сделает свой выбор — если господин умен и у него есть деньги, то чернь выберет именно его. Двадцатый век — наилучшее тому доказательство. Я говорю о другом: светскую власть — королю, духовную — Церкви, пусть все знают свое место. Абсолютная же власть принадлежит Богу.
— Какую именно Церковь вы имеете в виду?
— Разумеется, всеобщую. Монархия в тысячу раз лучше демократии. Демократия динамична и стремительна, она учитывает непрестанный рост всего мыслимого и немыслимого, живет культом нового. Как это безобразно! Как неверно! Как противоречит всем законам мироздания! Эта самая болтливая демократия, воспевающая просвещение, благосостояние и целесообразность, завела нас сюда — в конец эры западного человечества. Конец этот готовился долго; кто знает, когда именно было положено ему начало. Возможно, в те времена, когда рушили пражские монастыри и переделывали их в сумасшедшие дома; в тот день, когда надгробными камнями, выломанными из стен священной часовни Тела Господня, вымостили Конский рынок — по приказу холуев Иосифа. Разве можно удивляться тому, что площадь с тех пор проклята; что она превратилась в сточную канаву под названием Вацлавак? Неужели тут обошлось без Антихриста? Просвещенный император озаботился отменой рабства — но не было ли это ошибкой? Либо — не поступил ли он так лишь для того, чтобы полтора столетия спустя власть захватили два самых страшных в истории тирана? Грубияны-простолюдины, мстившие за свое униженное и оскорбленное эго? Благородная кровь не позволила бы пойти на такое! Она не позволила бы наступить этому нечеловеческому, можно даже сказать — бесчеловечному двадцатому веку. Он — лучшее подтверждение тому, что незнатные управлять не могут.