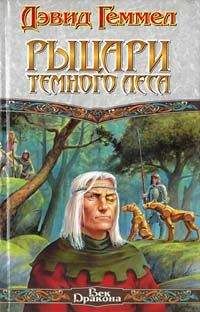Дэвид Сосновски - Обращенные
И слышу, как делаю ошибку.
— …принимать душ, — шепчу я, чувствуя, что полностью выдохся.
— Ха, — безжалостно отвечает Роз.
Она снова приподнимает мой подбородок, улыбаясь одной из своих хищных улыбок. И затем поворачивается. На одной пятке — как балерина. Как моя удача — наконец-то.
Она определяет направление и устремляется туда.
Ее сумочка — первая вещь, которая падает на пол. Затем лепестками опадает одежда — как осенние листья, как змеиная кожа. И тогда появляются руки на ее спине — навсегда стиснутые вместе, сине-зеленые на фоне ее белой, очень белой кожи.
Вот где начинается интимная сцена. И если бы это было кино, которое я видел еще мальчишкой, с этого момента камера потеряла бы интерес к людям, за которыми следила до сих пор. Люди поворачиваются друг к другу для первого взрослого поцелуя, и изображение становится расплывчатым. Вот тогда на экране появляется поезд, или водопад, или фейерверк, оставляя остальное на наше усмотрение… и оставляет нас в темноте, наедине с нашим воспаленным воображением.
Меня всегда бесило, когда камера так делала.
Но теперь я понимаю. Извините, но столкнувшись с необходимостью представить детальный отчет о том, что случилось между нами — Роз и мной — боюсь, что я должен умыть руки. Некоторые вещи выглядят неправильно, когда вы пишете о них от первого лица. Это звучит как кошмар, или хвастовство, или то и другое вместе. Плюс, если вы до сих пор не знаете, что происходит с людьми, когда они занимаются любовью, это не способ об этом узнать. А если уже знаете, то уже знаете, и я смогу сообщить вам не так уж много нового. Итак…
Глава 22. 32-В
— Мартин Джозеф Ковальски, — произносит Исузу — в ту секунду, когда я вхожу в дверь.
Вид у меня весьма потасканный. Прошел день и часть ночи, прежде чем я наконец-то перешагнул через этот порог. Очевидно, за это время я превратился в маленького мальчика, а Исузу освоила роль родительницы.
— Забыл, как телефон устроен?
Она стоит, скрестив руки на груди — вернее, почти-груди.
— Или бумажку с адресом потерял? — осведомляется она, постукивая ножкой.
Издевается, издевается… о да, издевается.
Сука. Я воспитал настоящую суку. И меня это даже не злит.
— Да, привет, Марти, — говорю я, ослабляя свой и без того свободно болтающийся галстук. — Спасибо, что трудился всю ночь, чтобы принести… так, что я принес на этот раз? Ага! Еду в дом… — внезапно я вспоминаю о возможности существования следов помады и снова затягиваю галстук. — Да, и деньги, чтобы заплатить за квартиру. Здорово! Ты, типа, крут немеряно, парень…
Исузу таращится на меня. Я таращусь на нее.
— От тебя пахнет духами, — сообщает она. — Дешевыми.
— Иди к себе в комнату, — бросаю я.
— Что?!
— Ты слышала. Игра в вопросы и ответы закончилась.
Пора спать.
— Но…
— Марш, — говорю я.
— Ты имеешь в виду «сматывайся»?
— Иззи, — теперь я тоже скрещиваю руки на груди, — это не обсуждается. Марш.
И, к моему величайшему изумлению, она сматывается. Она разворачивается на каблуках, топает прочь и громко хлопает за собой дверью спальни.
И становится тихо, и остаюсь только я.
Только я, ненавистный самому себе, злой на самого себя — потому что наказал своего маленького любимца за собственную неосмотрительность. Злой, потому что так долго отсутствовал, так классно проводил время — и не позвонил.
Злой на себя — потому, наконец, что злюсь и при этом должен улыбаться.
Когда я начинаю мурлыкать — а сейчас я ловлю себя на том, что мурлычу, — это означает, что я злюсь. Это песнь истинной злобы. Но когда я снимаю свой галстук, и моя рубашка падает на пол — благодаря тому, что прошлой ночью все пуговицы с нее пропали без вести — моя первая мысль не о пуговицах, с этим я разберусь позже, но о том, что мне нужно зеркало. И в зеркале я вижу это — кроваво-красные вспышки чистого, беспримесного порока, запятнавшие мою кожу. Они возвращают мне вкус рта Роз, ее укуса, щелчка, с которым встречались наши зубы.
Стоя в ванной, глядя на свою мерзкую рожу, я могу думать только об одном — о том пороке, которому предавались мы с Роз. И на моей роже снова появляется улыбка — точно на кружочках-смайликах, которые были так популярны несколько лет назад: с точками вместо глаз, кривулей вместо рта и двумя треугольничками, призванными изображать клыки.
Через примерно полторы недели после ночного грехопадения я признаюсь во всем. Признаюсь Исузу. Не Розе.
— Я кое-кого встретил, — объявляю я.
Это ответ на вопрос, с какой стати я, отходив почти восемь лет в одной одежде, ни с того ни с сего полностью поменял гардероб.
— Ну и ладно, — отвечает она.
— Все так очевидно?
Исузу проводит носом от моего плеча до шеи, точно собака-ищейка.
— Есть немного, — отвечает она. — Надеюсь, ты сможешь встречаться с ней больше одной ночи.
Исузу говорит, что не знает, делают ли бронекостюмы для девочек ее роста.
— Она еще не знает про тебя, — говорю я. — Пока я ее проверяю.
Исузу закатывает глаза.
— А вы еще не спали?
Слава богу, вампиры без помощи термостата не краснеют.
— Пока в этом не было необходимости, — отвечаю я, хотя моя улыбка предполагает иное.
— Так ты что, собираешься на ней жениться — или нет?
— Может быть, — отвечаю я. — Я уже сказал, что пока выясняю ситуацию.
Глаза закатываются еще сильнее.
— Между прочим, я делаю это отчасти для тебя.
— Да ты что! — Исузу ухмыляется. — И на какую часть? На ту, на которую ты скипаешь каждую ночь? Или на ту, которой ты трахаешь свою куколку?
Вот засранка. Я вырастил настоящую засранку, не прилагая к этому никаких усилий. Я поднимаю руку и указываю на нее.
— Видишь? — говорю я. — Сейчас я вот этой рукой выбью из тебя все дерьмо, которое вылетает у тебя изо рта.
Исузу моргает. Она знает, что я ее никогда пальцем не тронул. Но знает также, что угрожаю ей подобными вещами только в том случае, когда она переходит черту.
— И она не куколка, — продолжаю я. — Она бы тебе понравилась… — Пауза. — Думаю, это здорово — если бы рядом была женщина, которая могла бы тебе…
— Господи, — слова вылетают изо рта Исузу, точно вишневые косточки. — Я правильно тебя поняла? Ты хочешь найти мне маму?
— А что, неужели плохая идея?
— У меня была мама, — говорит она. — Твои дружки очень неплохо ею попользовались.
Всякий раз, когда Исузу хочет по-настоящему меня задеть, она начинает называть вампиров моими дружками. Связать меня и моих «дружков» со смертью своей матери — примерно то же самое, что сказать мне «мать твою».