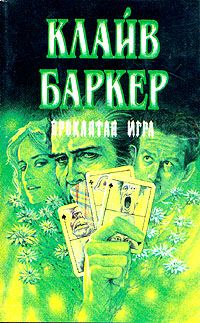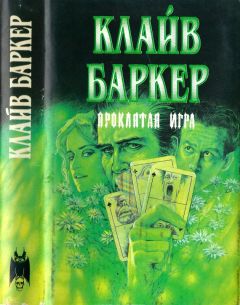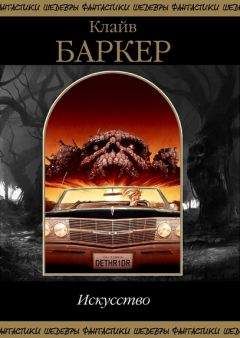Клайв Баркер - Проклятая игра
— У него была единственная любовь. Одна всепоглощающая страсть. Случай. Он был одержим случаем. «Вся жизнь это случай, — говорил он. — И фокус в том, чтобы научиться управлять им».
— А для вас это имело значение?
— Не сразу, но через несколько лет я разделил его одержимость. Не из интеллектуального интереса — мне это не свойственно. Я просто знал: если ты заставишь провидение работать на тебя… — Он взглянул на Марти. — Если сумеешь разработать систему… То тебе будет принадлежать мир. — Голос его стал суровым. — Посмотри на меня. Видишь, как хорошо я распорядился собой… — Старик горько усмехнулся и вернулся к началу разговора: — Он жульничал. Он не соблюдал правил.
— Сегодняшний прием должен был стать последним? — спросил Марти. — Я прав? Вы собирались сбежать, прежде чем он придет.
— В некотором роде.
— Как?
Вместо ответа Уайтхед продолжил историю с того момента, на котором остановился:
— Он очень многому научил меня. После войны мы путешествовали, по мелочи ловили удачу: я — своими способами, он — своими. Затем мы отправились в Англию, и я занялся химической индустрией.
— И разбогатели.
— Как Крез. На это ушло несколько лет, но я обрел деньги и силу.
— С его помощью?
От этой неприятной мысли Уайтхед нахмурился.
— Да, я применил его принципы, — ответил он. — Но он процветал вместе со мной. Он разделял со мной все — мои дома, моих друзей. Даже мою жену.
Марти хотел заговорить, но Уайтхед оборвал его.
— Я говорил тебе о лейтенанте? — спросил он.
— Вы упоминали его. Васильев.
— Он умер, сказал ли я об этом?
— Нет.
— Он не заплатил свои долги. Его труп выловили из канализационной канавы в Варшаве.
— Его убил Мамолиан?
— Не собственноручно. Но, думаю, да… — Уайтхед запнулся на полуслове и наклонил голову, прислушиваясь к чему-то. — Ты ничего не слышишь?
— Что?
— Нет. Все в порядке. Показалось. О чем я говорил?
— О лейтенанте.
— А, да. Эта часть истории… Не знаю, будет ли она интересна тебе… но я должен объяснить, потому что без нее все остальное не имеет смысла. Видишь ли, ночь нашей встречи с Мамолианом была необыкновенной. Бесполезно пытаться описать ее. Знаешь, как солнце освещает верхушки облаков: такой розоватый, стыдливый, нежный цвет. И я был так переполнен собой, так уверен, что со мной не случится ничего дурного…
Он замолчал и облизал губы, прежде чем продолжить.
— Я был глупцом, — произнес он с презрением к самому себе. — Я шел по развалинам, повсюду пахло тленом, под ногами вилась пыль. А мне было наплевать, потому что это не мои руины, не мое разложение. Я думал, будто я выше их, особенно в тот день. Я чувствовал себя победителем, потому что я был жив, а мертвые мертвы.
Течение слов приостановилось. Потом Уайтхед заговорил так тихо, что приходилось до боли напрягать слух:
— Что я знал? Вообще ничего. — Он прикрыл лицо дрожащей рукой. — О господи!
Наступила тишина, и Марти услышал какой-то звук за дверью — легкое движение в холле. Но звук был слишком мягким, чтобы понять его происхождение, а атмосфера в комнате требовала абсолютной сосредоточенности. Если двинуться и заговорить, исповедь прервется, а Марти, по-детски увлеченный мастерством рассказчика, хотел дослушать волнующую повесть до конца Сейчас это казалось ему самым важным.
Уайтхед прикрывал рукой лицо, пытаясь скрыть слезы. Вскоре он вновь ухватился за кончик своей истории — осторожно, словно она могла убить его одним ударом.
— Я никогда никому не говорил об этом. Я думал, что молчание превратит случившееся в один из слухов и рано или поздно все исчезнет.
В холле снова раздался слабый звук: поскуливание, словно ветер свистел в маленькой щели. Затем кто-то начал царапаться в дверь. Уайтхед ничего не слышал. Он снова был в Варшаве, в разрушенном доме; он видел костер и пролет лестницы, стол и мерцающий огонек в комнате. Почти такая же комната, как та, где они находились сейчас. Только там пахло пеплом, а не скисшим вином.
— Помню, — сказал он, — когда игра закончилась, Мамолиан встал и пожал мне руку. Холодными руками. Ледяными руками. Затем за моей спиной открылась дверь. Я повернулся вполоборота. Там стоял Васильев.
— Лейтенант?
— Страшно обгорелый.
— Он выжил? — изумился Марти.
— Нет, — последовал ответ. — Он был мертвее мертвого.
Марти подумал, что пропустил какую-то часть истории, которая объясняла это невероятное заявление. Но нет, безумие подавалось как чистая правда.
— Мамолиан умеет это делать, — продолжал Уайтхед. Он дрожал, но его слезы высушил жар воспоминаний. — Он воскресил лейтенанта из мертвых, видишь ли. Как Лазаря. Видимо, ему требовались исполнители.
Слова еще не стихли, когда за дверью вновь послышалось шуршание. Кто-то явно пытался войти. Теперь и Уайтхед услышал. Момент его слабости прошел, голова вскинулась.
— Не открывай, — приказал он.
— Почему?
— Это он, — проговорил старик с безумными глазами.
— Нет. Европеец ушел. Я видел, как он уходил.
— Не Европеец, — ответил Уайтхед. — Лейтенант Васильев.
Марти недоверчиво взглянул на него.
— Нет, — сказал он.
— Ты не знаешь, на что способен Мамолиан.
— Да вы спятили!
Марти встал и направился к двери по хрустящему стеклу. За спиной он слышал, как Уайтхед взмолился:
— Нет, нет! Боже, прошу тебя!..
Но Марти уже повернул ручку и открыл дверь. Слабый свет огарка осветил того, кто так стремился к ним войти.
Это была Белла, собачья мадонна. Она неуверенно стояла на пороге. Подняв вверх глаза — или то, что от них осталось, — она смотрела на Марти. Из ее пасти свешивался язык — пучок червивых мышечных волокон; казалось, что она не может втянуть его обратно. Откуда-то из глубины ее тела раздался тонкий писклявый звук: так скулит собака, когда просит человеческой ласки.
Марти, пошатываясь, сделал пару шагов от двери.
— Это не он, — с улыбкой сказал Уайтхед.
— Господи!
— Все в порядке, Мартин. Это не он.
— Закройте дверь! — выкрикнул Марти, не в силах пошевелиться и сделать это сам.
— Она ничего тебе не сделает. Она иногда приходила сюда за угощением. Она была единственной из них, кому я доверял. Мерзкие твари.
Уайтхед оттолкнулся от стены и направился к двери, по дороге отшвыривая разбитые бутылки. Белла повернула к нему голову, принюхалась и завиляла хвостом. Марти с отвращением отвернулся. Его рассудок метался, пытаясь найти хоть какое-то разумное объяснение, но усилия были тщетны. Собака мертва, он сам заворачивал ее в пакет. Не может быть, чтобы он похоронил ее живьем.