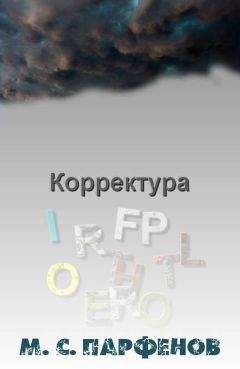"Самая страшная книга-4". Компиляция. Книги 1-16 (СИ) - Парфенов Михаил Юрьевич
– Ты, милай-то, смотри, супротив божьей воли не ходи-то, – через неделю говорит бабка мне на пороге, прощаясь и строго грозя пальцем. – Демоническими делами не балуйся, заклинания и чернокниженье гони, аки гнус лесной.
Я молча киваю. Из всего этого я понимаю только одно: колдовство – это плохо.
– Так, еду взяли? – неожиданно спокойно обращается она к отцу. – Картошка в ссобойке, в мешочке сушеные ягоды.
– Взяли, – кивает отец. – Спасибо.
Бабка резко разворачивается и уходит в дом.
Больше я ее не видел. И, кажется, даже и не вспоминал о ней – до этого момента.
– Колдовство – это плохо, – хрипло сказал я ребятам.
– Эй, трусишь, что ли? – Серега хотел залепить подзатыльник и мне, но я отпихнул его и погрозил кулаком.
– Я не трушу, – я пожал плечами. – Просто мне говорили, что колдовать – это плохо. Опасно в смысле.
Я не мог понять, что вообще меня дернуло об этом сказать ребятам. Разве мы не подглядывали за девчонками, когда они тайком гадали в домике на детской площадке? И разве не кричали хором в самый ответственный и жуткий момент этого гадания – отчего кое-кто из девчонок от неожиданности даже писался и получал на целый год кличку «Оксанка-зассанка»? Почему я тогда не говорил, что колдовство – это плохо? Или не заявлял это, когда зимними вечерами, спрятавшись в вырытой в огромном сугробе пещере, мы рассказывали друг другу страшные сказки и даже пытались вызвать гномика-матершинника. Гномик не приходил – видимо, предпочитая появляться в теплых домах, а не в снежной куче.
– Опасно, – упрямо и уныло повторил я, осознавая собственную глупость.
– Так никто и не собирается колдовать, – пожал плечами Мишка.
– А как он тогда появится? – пискнул Толик. От напряжения он засунул в нос сразу два пальца.
– Его нужно просто позвать, – ответил Мишка. – Вот и все. И он придет. И съест все, что нам надо.
Я снова поежился. Мы сидели в тени под грибком, в старой полупустой песочнице. Кроме нас никого не было – ни во дворе, ни в переулках, – безжалостный жар палящего солнца изгнал всех в квартиры, в прохладу под защитой бетонных стен – и распахнутые окна домов казались глазами, следящими за нами пустым, изучающим взглядом.
– Зови, – решительно сказал Серега.
– Ага, – прогудел в нос Толик.
– Ну, а ты? – Мишка повернулся ко мне. – Димыч, ты что, правда струсил?
– Да нет, – я пожал плечами. Капельки пота ползли у меня по спине, словно там, между лопатками извивался огромный жирный червяк. – Давай.
– Ну ладно, – Мишка потер ладони. – Эй ты, Мальчик-Обжора, приходи сюда, у нас есть для тебя еда!
И он пришел. В мареве дрожащего воздуха. В водоворотах песка под его ногами. В игре света и тени. Пришел и сел рядом с нами.
Сколько я потом ни спрашивал ребят – какой он, Мальчик-Обжора? – так никто и не ответил мне. Все вспоминали неуловимые очертания, выхватывали какие-то детали: Серега говорил, что у Мальчика-Обжоры на губах скапливалась слюна, Толик отвечал, что тот пухлый, Мишка упоминал небрежный полубокс. Я знаю лишь, что Мальчик-Обжора был рыжеват. Это запомнилось мне только потому, что рыжеват был и я.
Мальчик-Обжора сидел рядом с нами – со слюной на губах, пухлый, с рыжеватым полубоксом – и молчал.
А потом Мишка протянул ему кепку.
– Ешь, – сказал.
Мальчик-Обжора ничего не ответил. Он даже не пошевелился.
– Ешь, – повторил Мишка уже просительно. – Это вкусно. Это надо съесть.
Мальчик-Обжора вздохнул. Потом кивнул.
И указал пальцем в сторону Гаражей.
– Ты будешь есть там? – уточнил Мишка.
Мальчик-Обжора снова кивнул.
Мишка не соврал. Мальчик-Обжора действительно съел его кепку. Он рвал ее на части крепкими, белыми, остро заточенными зубами, а потом тщательно пережевывал и глотал. И снова пережевывал – и снова глотал.
«Надо бы ему дать запить», – отчего-то подумал я.
Мальчик-Обжора стоял между Гаражами – а мы подглядывали за ним в щель. И нам казалось, что так аккуратно и тщательно рвет, пережевывает и глотает он для нас – потому что мы смотрим. Потому что без нас – он бы не поел. И, наверное, – и не появился бы.
– Мы забыли пожелать ему приятного аппетита, – хрипло сказал Толик.
– Ничего, – усмехнулся Серега. – Ему и так хорошо.
Потом Мишка говорил, что Мальчик-Обжора всех нас поблагодарил и ушел, затерявшись в Гаражах. Серега спорил, что тот лишь небрежно махнул рукой на прощание. А Толик сообщал, что это мы сами ушли первыми, потому что услышали чьи-то шаги и решили, что нам сейчас влетит за то, что мы опять приблизились к Гаражам.
А я ничего не говорил. Потому что я не помнил ничего. Вот Мальчик-Обжора рвет, пережевывает и глотает – а вот я уже сижу дома и ем суп, стряхивая хлебные крошки в тарелку.
Мишку не ругали за кепку. Даже пообещали купить новую.
А мы позвали Мальчика-Обжору снова. Не скоро, но позвали.
То был октябрь. Сырой, промозглый. На асфальте стояли черные лужи, остатки песка в песочнице превратились в вязкую жижу. Мы сидели, подстелив мешки из-под сменки, и разглядывали Толин дневник. Идея стереть двойку по математике ластиком была совершенно неудачной – теперь на странице красовалось огромное грязное пятно.
– А если поскоблить лезвием? – предложил Серега, доставая обломок «Невы».
Лезвие измохратило страницу и продрало дыру, зацепив предыдущую. Глаза Толика наполнились слезами.
– Меня мамка убьет, – проныл он. – Она сказала – хоть одна тройка, и я об тебя ремень сотру!
– Ну, она ж про тройку сказала это, – попытался пошутить Серега. – А тут двойка. Про нее и речи-то не было.
Толик уткнулся в сложенные на коленях руки и завыл.
– Ну, ладно, чо ты, чо ты, – растерялся Серега. – Я же пошутил. Ну, Толяныч!
– Так пусть тогда его съедят, – вдруг предложил Мишка.
– Кого? – не поняли мы. – Толика?
– Нет, дневник. Пусть придет Мальчик-Обжора и съест дневник. Как тогда кепку! Помните?
И мы вспомнили.
Странное дело – но все эти месяцы, скормив Мальчику-Обжоре кепку, мы больше и не помышляли звать его. Так, вспоминали иногда в разговоре, шутя, как общую забавную тайну, перемигиваясь, давая ему смешные прозвища – но не более. Потом и эти воспоминания постепенно стерлись – как стирается летний рисунок мелом на асфальте под струями осенних дождей. Мальчик-Обжора ушел из нашей памяти вместе с летом – и вот Мишка снова сказал о нем.
И мы вспомнили.
– Да! – вскинулся Толик. – Да! Да! Конечно! Позови его, пожалуйста!
И Мишка позвал его.
Все было почти, как тогда. «Почти» – потому что не пекло солнце, а моросил мелкий противный дождь, и холодный, пронизывающий ветер дул в спины нам, подглядывающим между Гаражами. А Мальчик-Обжора рвал, пережевывал и глотал. Рвал, пережевывал и глотал. Рвал, пережевывал и глотал.
Дома Толику, конечно, влетело – но, как он сказал, меньше, чем могло бы быть. Просто за потерянный дневник. За растяпистость. За то, что «все дети как дети, а тут одно наказание». В общем, как обычно. О двойке же мама узнала гораздо позже, встретив учительницу – и то в виде «надо же, а ваш Толя двойку исправил, молодец, всегда бы так», так что ругать было уже, вроде бы, особо и не за что. Так, чуть-чуть оттаскать за ухо – потому что врал.
Больше о Мальчике-Обжоре мы не забывали.
Часто скармливать ему дневники нам не удавалось – родители могли что-то заподозрить в такой нашей растяпистости. Поэтому в ход шли тетради, листочки с заданиями, порванные мешки со сменкой… Мальчик-Обжора рвал, пережевывал и глотал. Рвал, пережевывал и глотал. Рвал, пережевывал и глотал…
Скормить собаку Мальчику-Обжоре предложил Серега.
Эта мелкая, пронырливая шавка доставала всех уже третий год. Особенно она недолюбливала детей – и особенно, если те были без взрослых. Пряталась рядом с подвалом – и выскакивала с заливистым лаем, норовя цапнуть за ногу. Рваные штаны, залитые йодом и зеленкой щиколотки, прокушенные кеды и сандалии – и постоянный рефрен «а нечего было ее дразнить». В этом году шавка ощенилась, и ей окончательно снесло крышу.