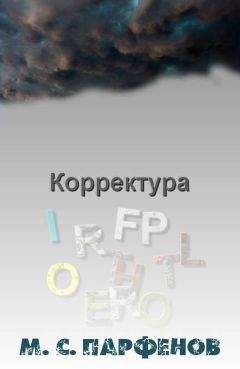"Самая страшная книга-4". Компиляция. Книги 1-16 (СИ) - Парфенов Михаил Юрьевич
– Порванную одежду! Что-то сломанное! Что-то… что-то… – фантазия Мишки иссякала, но глаза у него горели – и мы уже додумывали сами.
– Он может съесть тот гвоздь в заборе, о который я порвал футболку! – захихикал Толик.
– И те битые бутылки, которые валяются на футбольной площадке! – подхватил я.
– И вечно горящую и воняющую урну около подъезда, – продолжил Серега.
Мы фантазировали, перебирали в памяти, что же можно скормить Мальчику-Обжоре – и сами удивлялись тому, как много в мире вещей, которые нам мешают.
– Ну, хорошо, – Мишка хлопнул в ладоши, кажется, раздосадованный тем, что Мальчик-Обжора начинает принадлежать не только ему. – Давайте скормим кепку!
– Кепку? – Серега присвистнул через щербинку в зубах. – А тебе не влетит? Ты же только что ныл, что батя тебя убьет?
– Ну-у-у… – Мишка скривился. – Я скажу, что ее у меня украли. Что какой-то взрослый пацан подскочил, сорвал ее с меня – и убежал.
– Ты ж на велике, – резонно возразил Серега.
– Ну-у… – Мишка почесал облупленный кончик носа. – Он убежал за гаражи.
Точнее, он сказал «за Гаражи». С придыханием, в котором явно слышалась Заглавная Буква. Гаражи были для нас святым местом, недосягаемой мечтой, сродни киносеансу «детям до шестнадцати». Нас не пускали туда по простой причине «нельзя». Почему нельзя? На этот вопрос оказывалось так много ответов. Машина задавит. В яму провалитесь. На арматуру напоретесь. Собаки нападут. Цыгане украдут. Просто нельзя, не мешай.
Конечно, мы пытались туда пробраться – тайком, украдкой, незаметно. Но каждый раз натыкались на какого-нибудь автолюбителя, который гнал нас прочь промасленной тряпкой. Словно все хозяева Гаражей условились: «детям сюда нельзя». Рано утром, до школы, в обед, на переменках, после школы, в будни и выходные – всегда, всегда, всегда, словно несли в Гаражах невидимую вахту, лишь бы не пустить нас туда.
Толик говорил, что нам это кажется. Что Гаражей слишком много – и, конечно же, там всегда будут копаться в двигателях, пить пиво, жарить шашлыки или слушать радио. Каждый день, каждый час. И мы тут ни при чем. Кому мы нужны?
Но какая разница, почему? Нас не пускали туда – и точка. Мы с завистью смотрели, как старшие пацаны выкатывают из Гаражей старые покрышки – а потом поджигают их в овраге, затягивая ближайшие дворы жирным, черным дымом. Как они фехтуют на ржавой арматуре, выкрикивая слова, Которые Нам Нельзя Было Произносить. Как несут что-то в Гаражи, оглядываясь по сторонам: прятать, закапывать в битый шифер, кирпичи и куски бетонных блоков.
Но нам было туда нельзя.
Так что довод Мишки должен был умилить и растрогать родителей: даже под страхом потери ценной кепки он не осмелился нарушить запрет.
– А может быть, того… – засомневался Толик, разглядывая зеленовато-желтое содержимое своего носа. – Может быть, просто и закинуть ее в гаражи?
– Эй! – Серега отвесил ему подзатыльник. – Я хочу на Мальчика-Обжору посмотреть!
– Ну да, Толян, – я пихнул его в бок. – Если самому сыкотно, ну так отвернись или домой беги.
– Да не, чо… – Толик вытер пальцы о шорты. – Я ничо…
– Если кепку просто выкинуть в гаражи, – важно ответил Мишка, – то ее могут найти. А если ее съест Мальчик-Обжора – то тогда никто никогда ее больше не увидит. Она исчезнет. Пуффф!
– Пуффф! – завороженно повторил за ним Серега. – Ну давай, давай, вызывай его! Что для этого нужно? Заклинание какое-то?
Я поежился. «Ты, милай-то, смотри, супротив божьей воли не ходи-то», – вдруг вспомнились мне слова прабабки по отцу. Как ее звали – Нина, Зина, Глаша? – я не мог припомнить. Я и видел-то ее лишь раз в жизни, кажется, в шесть лет, когда маму положили в больницу, а отец решил «вывезти ребенка на свежий воздух». Мы сутки тряслись в плацкартном вагоне, в котором пахло прокисшей вареной картошкой и жареной три дня назад курицей, потом подпрыгивали на ухабах в раздолбанном ПАЗике, затем шли еще полчаса – и все для того, чтобы встретиться с суховатой, всей какой-то желтой, старухой.
– Саша? – недовольно проскрипела она, встретив нас на пороге. На ней была ветхая, пожелтевшая от времени ночнушка в мелкий василек, поверх которой крест-накрест был повязан шерстяной платок. – Тот, кто Аньку попортил? Подле-е-ец…
– Я Глеб, – поправил отец. – И Аню я… э-э-э… в общем, это не я.
Старуха скривилась.
– Все равно подлец, – махнула рукой.
– А это Дима, – отец хотел подтолкнуть меня вперед, как всегда это делают взрослые, но в последний момент удержал. Кажется, потому, что в лице бабки промелькнуло что-то хищное. Крючковатый нос загнулся, как клюв – и как острый клюв же вытянулись трубочкой тонкие серые губы.
– Ми-и-итенька, – умильно пропела она. – Имечко-то хорошее, мученики-страстотерпцы-святые-преподобные носили… Малец-то крещеный али демонам отдадите?
– Так, – отец сделал шаг вперед. – Бабуля. Вы меня помните? Я Глеб, ваш внук, сын Александра.
– Са-а-ашенька, – захихикала бабка. – Аньку попортил, Анька утопилась, Анька прокляла! Всех-всех прокляла до седьмого колена.
– Ясно, – отец вздохнул и поглядел на часы. – Ладно, к обеду на станции будем, билет поменяем. Отдохнули, блин.
– Глее-ебушка, – старуха продолжала хихикать. – Княжеское имя, святых-благоверных!
– Да-да, – согласился отец. – Мне оно тоже нравится.
– Ну, что стоите-то, – внезапно серьезно и спокойно спросила бабка. Ее лицо смягчилось. Казалось, даже морщины разгладились, словно кто-то невидимый протер их огромной ладонью. – Пришли, встали на пороге и молчите.
– Что? – не понял отец.
– Вы чего хотели, молодой человек? – голос бабки был тверд и властен. – Иконы я не продаю, а то много вас тут ходит. Денег у меня не водится, так что и покупать ничего не буду. И ребеночка вашего в первый раз вижу и не живет такой в деревне у нас.
– Я Глеб, – медленно сказал отец. – Ваш внук. Это Дима, ваш правнук.
– Глебушка? – всплеснула руками бабка. – Это Сашкин сын-то? А я-то думала, на кого так похож! А это Димочка? Глазки-то какие ясные! А вы с дороги небось? Проходите, проходите, я-то ужо расстараюсь, я-то для вас сгоношу чего-нибудь! А то стоите тут, как неприкаянные!
Я не понимал половину из того, что говорила бабка. Обычные слова, привычные фразы вдруг оборачивались каким-то ворожейным бормотанием, неразборчивым бульканьем, из которого я улавливал лишь жалкие обрывки – и то, странно исковерканные, искореженные, прожеванные и выплюнутые.
Вот она, накладывая из огромной миски душисто пахнущую картошку с укропом, справляется, как там с работой у отца – а вот хихикает, стуча деревянной ложкой по столу, и требует не кормить чертика. Вот она сообщает о том, что стало с какими-то отцовскими приятелями, с которыми он и виделся-то лишь в далеком детстве, – а вот шлепает меня по зевающему рту и требует закрывать его, а то «демоны залетят». Отец морщится и шепчет мне, что «бабуля болеет». И я верю ему.
Ночью бабка приходит ко мне в кровать, ложится рядом под одеяло, прижимается дряблым телом, закидывает мне на плечо свою обвислую грудь – и шепчет, шепчет, шепчет что-то в ухо. Я разбираю только «демоны», «унутрях», «сидят», «накликаете», «память». От бабки пахнет травой и кислым молоком, ее ступни, которые елозят по моим ногам, – холодные, жутко холодные, будто меня гладят две ледышки. Но я молчу. И мне не страшно. Потому что я не знаю – нужно ли мне бояться. Может быть, именно так и ведут себя прабабки со всеми правнуками? Может быть, именно так и надо? И если я закричу, заплачу или хотя бы просто испугаюсь – а она это поймет, – то я буду глупо выглядеть?
Бабка продолжает шептать – жарко, с одышкой, капельки слюны стекают по моему затылку. Иногда что-то влажное касается его – и я понимаю: кажется, это ее язык. «Не выпускай, не соглашайся, не слепни… – бормочет бабка. – Не иди на поводу, не морочься…»
А потом она со стуком падает на пол и уползает к своей кровати.
А я еще долго лежу без сна и смотрю на иконы, висящие в углу. Закопченные лики святых пялятся на меня белыми, старательно протертыми тряпкой глазами – и мне кажется, что они шевелят черными губами и шепчут какие-то черные слова. И эта чернота опускается на меня, вползает в меня, втекает через уши, рот, глаза – я погружаюсь в нее и засыпаю.