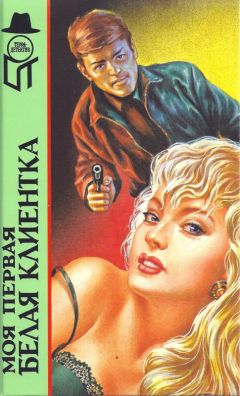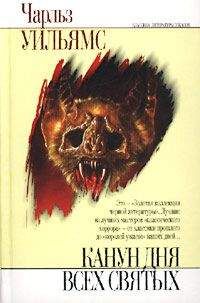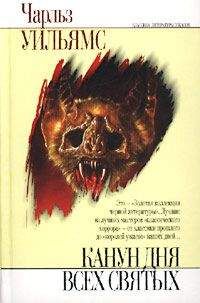Чарльз Уильямс - Тени восторга
Глава тринадцатая
ВСТРЕЧА ПОСВЯЩЕННЫХ
Уже стемнело. Море и даже дорожку перед домом скрыла мгла. Роджер коротал время в одиночестве. Кейтнесс еще не вернулся от короля, а Розенберг с трудом выдавил несколько слов и ушел в свою комнату. Роджер читал то одну, то другую из разбросанных повсюду книг — в основном это была так называемая классика всех времен и народов. Все они были напечатаны по специальному заказу, набраны изысканными шрифтами, которых он не мог опознать; переплеты удивляли непривычным, но красивым сочетанием цветов. Отрывки из Сафо, Песнь Соломона, Эсхил, «Галльская война», «Макбет», несколько китайских книг и парочка, как решил Роджер, африканских, по крайней мере, такие буквы раньше ему не встречались. Была даже одна рукописная книга, наполовину заполненная изящным загадочным почерком, и тоже незнакомыми буквами. Он читал одни, заглядывал в другие, пытался найти таящуюся в них силу, проступавшую на страницах греческими, английскими и этими незнакомыми символами. Наконец, утомившись, он решил отложить поиск, но тут же понял, что на этот раз так не получится. Раньше, прекращая литературные занятия, он легко возвращался на дороги внешнего мира, так непохожие на тайные тропы, которыми он бродил по следам великих поэтов. Иногда, читая дома, он оглядывался, чтобы увидеть привычную комнату, мебель — тоже привычную и даже приятную, — в некотором смысле чуждую священным строкам. Его письменный стол неловко подмигивал ему, встречая хозяина, вернувшегося из странствий по мрачным мирам князя мира сего или из душистых сумерек, наполненных соловьиным пеньем. Но здесь и книги, и дом были одинаково сообразны и естественны. В результате удачного сочетания умозрительных и реально видимых и слышимых вещей Роджер совсем не чувствовал усталости. И это было понятно. Великое не может утомлять, если вокруг — оно же. Роджер всегда знал, а сейчас — тем более что великое, если оно подлинно великое — это сила и вечное обновление. Если раньше он менял одно окружение на другое и переход от чистой тьмы к туману повседневной жизни утомлял его, то здесь не нужно было возвращаться, все было едино.
Роджер подошел к окну, выглянул наружу и не увидел ничего, кроме фар машины, стоящей перед входом. Он вернулся обратно и, помедлив минуту-другую, вышел в холл. Там вокруг Консидайна собралась группа людей. Впрочем, они уже расходились, и скоро Консидайн остался один. Он заметил Роджера, улыбнулся и подошел.
— Ну вот, — сказал он, — я получил сообщение из Африки. Люди там и здесь готовы, значит, скоро все начнется. Зайдлер ничего не сможет сделать. Он не осмелится начать войну здесь. Я оставлю ему Южную Африку лет на пятьдесят, и уверен, к концу этого срока они будут умолять меня вернуться. Давайте выйдем на улицу?
Они вышли на веранду, и холодный вечерний воздух, казалось, обнажил истинную сущность Консидайна. Роджер почувствовал рядом с собой ту самую мощь и зрелость, к которым всегда стремился. Человек рядом с ним стряхнул привычный груз лет и образ поведения, он двигался как гигант, и хотя смотрел он на Роджера вполне дружелюбно, даже дружелюбие получалось у него значительным и мудрым. Он легко ступал, меряя шагами веранду, и было непонятно, касается ли он пола вообще. Рядом с ним Роджер чувствовал себя неловким и неуклюжим, — дитя земли рядом с самой землей, вдохновленной и преображенной.
— Сегодня мы отправимся в путь, — сказал Консидайн. — Мне нужно сделать здесь еще одно дело, но времени вполне достаточно.
— Кажется, вы всегда находите время, — ответил Роджер.
— А почему нет? — удивился Консидайн. — Каждая секунда — бесконечность, если ты можешь в нее войти. Но разум человека со стенаниями сидит у ее дверей, он бросает недоделанные дела и возбужденно носится по миру. Вы это преодолеете.
— Как вы этого добились? — робко спросил Роджер. Порывистый сердитый Роджер из Лондона исчез без следа, сейчас он шел за взрослым как ребенок и как ребенок обращался к взрослому.
Консидайн улыбнулся в темноте.
— Сегодня утром, — сказал он, — девочка бросила мальчика, и мальчик сказал: «Зачем я бессмысленно страдаю? Это тоже я — вся эта безмолвная боль — я, и через нее я вырастаю в себе». Я мог бы показать вам улицу, где это произошло — она еще цела, — где мальчик сказал: «Если бы эта боль была силой…» Потом он представил боль как себя, а себя как боль, и поскольку она была больше него, он понял, что он тоже больше себя и настолько зрел и силен, насколько он сам этого захочет. Девочка давно умерла, она была прелестным ребенком.
— А потом? — спросил Роджер.
— Потом, уже немного позже, перед полуднем, — продолжал голос в темноте, — мальчик нашел другую девочку и полюбил ее. Но когда эта новая любовь взросла в нем, он вспомнил свою боль и те горизонты, которые открылись благодаря ей, и спросил себя: а не предназначена ли любовь для чего-то большего, чем удовлетворение похоти, вынашивание ребенка и будущее, в конце которого смерть? Он хотел знать, чем еще может быть человек, и он перелил желание и страсть в стремление к жизни. Тогда он стал свободен.
— Но при чем здесь Африка? — спросил Роджер.
— Мой отец был хирургом, — ответил Консидайн. — Однажды он взошел на корабль и взял меня с собой. Корабль потерпел крушение — тогда это было обычным делом, — но мы с ним спаслись и выбрались на берег. Я говорил вам, что мой отец кое-что знал о старых колдовских обрядах — это не так интересно, как может показаться, ведь важны только естественные свойства развивающейся и крепнущей природы человека, остальное неважно, — и его знания пригодились. Он заставил колдунов его бояться. Мы ушли далеко в глубь континента, прежде чем он умер, и там я обнаружил, что мои эксперименты с болью входят в программу обучения посвященных. Они держали это в тайне, но я знал, что такое великое знание предназначено для всего мира. Надо просто подождать, когда придет время. И вот теперь время пришло.
— Но что же будет в конце этого пути? — воскликнул Роджер с надеждой и отчаянием.
Консидайн повернулся к нему, но в темноте Роджер, полный смутных воспоминаний о пламенных пророчествах, не был уверен, кто стоит перед ним. Движение напомнило ему Изабеллу, но Изабеллы здесь не было; в памяти всплыла лобастая голова Мильтона, но глаза… ведь Мильтон был слеп, а эти глаза сияли перед ним в ночи. Стоящая рядом фигура была как-то связана с морем, его шум все время был здесь фоном разговора, с морем, вышедшим из берегов поговорить с ним. Тогда он видит не глаза, а свет под морем, и его уносит прочь от мира людей в океанские водовороты и течения. Роджер даже взмахнул руками, пытаясь выплыть, но это не избавило его ни от удушья, ни от шума в ушах. Он изо всех сил пытался грести вверх, и казалось, его голова вырвалась из волн, и невдалеке он увидел берег; там ждали друзья. Он видел сэра Бернарда, иронически поглядывающего на волны, в которых он барахтался, и на него, этакого торопыгу, очертя голову кинувшегося в такую авантюру и теперь пытающегося уцепиться за соломинку. Он увидел Розамунду под руку с Филиппом, она уводила его прочь от берега к широкой дороге. Он увидел Изабеллу в платье, намокшем от брызг, с мокрыми волосами. Она стояла, протянув руки к морю, у самой кромки воды, но не видела его, а он — вот досада! — еще не мог ходить по воде… Его опять закружило в волнах, вновь подступило удушье, но ему и на этот раз удалось вырваться из глубины. И опять он увидел людей на берегу, только теперь их фигурки были едва различимы. Пока он смотрел, далекий колокольчик зазвенел и позвал его — далекий-далекий колокольчик: «Динь, динь, дон».[71] Роджер услышал, услышал и понял. Это не они бросили его, это он оставил их на берегу. «Динь, динь, дон», — звенели они ему, отпевая и призывая одновременно. Поскольку другой надежды не осталось, он подчинился, заставил себя прекратить борьбу и, вытянувшись, опустился вниз, на дно, где лежали мертвецы. Шум в ушах мог быть слитным хором голосов толп и армий, взывающих к своему повелителю, или все же шумело море, и в его рокоте угадывались слова: «Отцу в ответ сыновнее сказало Божество…» Грохот речи ударил по нему, когда он, отдавшись на волю говорящего моря, рванулся вниз сквозь его толщу. Для него мукой было позволить себе так тонуть, бросив все, что он любил, погрузиться в эту чуждую среду, это была боль, неописуемая… неописуемая… что? — не боль, но что-то другое, изысканность боли, которая была, теперь он это понял, вовсе не болью, а восторгом. Сколько их стояло на этом берегу, тех, кто считал, что испытывает боль, а если бы они всмотрелись в себя попристальнее, о, какой восторг вспыхнул бы в их сердцах! Большую часть своих невежественных лет человек не вполне сознает, что же он чувствует, и он, Роджер, был таким же, так же держался за прошлое, вздыхал, когда надо было смеяться, и смеялся, когда надо было вздыхать. Великие страсти проносились сквозь него неузнанными до тех пор, пока вдалеке он не увидел отблеск их славы и не воскликнул: «Это было!» Но иногда он все же знал, и какой же силой он тогда обладал! А если бы человеческое тело всегда могло быть насыщено этой солью, как сейчас, пропитано морем, как сейчас, он знал бы всегда! Когда ты можешь из любого чувства извлечь восторг состояния, тогда вокруг все и всегда новое, ибо новизна становится свойством этой вечной и всеобщей жизни. Он знал восторг, он не побоялся призвать его, и он пришел. На крыльях этого восторга он овладел собой, и теперь великое дыхание приливов и отливов подчинялось ему. Он больше не тонул, он ступал по песку на дне великого моря, только моря там больше не было, он сам был морем и бродил под солнцем по желтому песку. «На желтый на песок слетись».[72] Восторг стал понятен; его боятся лишь те, кто не удостоился этого понимания, и при этом называют свою жизнь естественной! В бурных волнах на поверхности таилась опасность и смерть, но для тех, кто не избегал глубин и расстояний, они стали частью их природы. Каждый новый шаг нес в себе восторг. Роджер не мог больше таить его в себе, в горле сам собой родился крик освобожденного духа: «Весело, весело я заживу!»