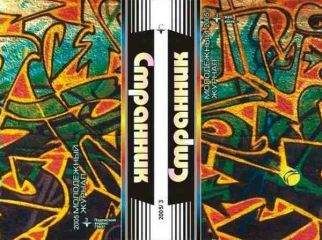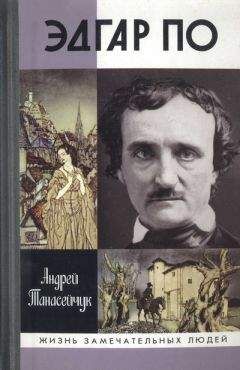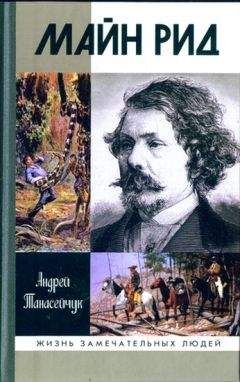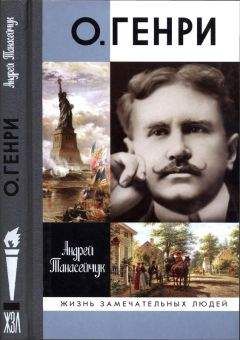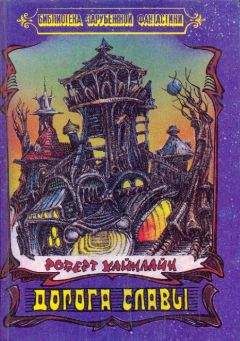Наставники Лавкрафта (сборник) - Джеймс Монтегю Родс
– Ах, мисс, напишите уж вы!
– Обязательно, сегодня же вечером, – ответила я наконец, и на этом мы расстались.
Вечером я дошла до того, что приготовилась начать. Погода снова испортилась, задул резкий ветер, и я долго сидела под лампой в своей комнате, рядом с мирно спящей Флорой, перед чистым листом бумаги, прислушиваясь к тому, как дождь хлещет по окнам и дребезжат стекла под порывами бури. Наконец я встала и вышла, взяв с собой свечу; пройдя по коридору, я остановилась у двери Майлса и прислушалась. Неукротимая одержимость заставила меня ловить любые признаки его бодрствования, и вот я уловила звук – но не тот, которого ожидала.
– Эй, вы там! – звонко позвал мальчик. – Заходите!
Веселый голосок во мраке! Я вошла со свечой и обнаружила его в постели, ничуть не сонного, но весьма благодушного.
– Ну, и зачем вы не спите? – спросил он так любезно, что будь тут миссис Гроуз, она напрасно искала бы доказательства правоты моих подозрений.
Я подошла к кровати и подняла свечу повыше.
– Как ты узнал, что я здесь?
– Запросто, я вас услышал. Вы вообразили, будто ходите бесшумно? Да вы топочете, как эскадрон кавалерии! – задорно рассмеялся он.
– Так ты не спал?
– Я лежу и думаю.
Я намеренно поставила свечу поближе к нему, присела на край кровати, а он по-дружески протянул ко мне руку.
– О чем же ты думаешь?
– Ах, да о чем же еще, как не о вас, дорогая мисс?
– О, моей гордости льстит такое внимание, но без этого можно и обойтись! Я бы предпочла видеть тебя спящим.
– Знаете, я думаю про наши странные дела.
Я отметила про себя, что его маленькая твердая рука холодна.
– Какие странные дела, Майлс?
– Ну, как вы меня воспитываете. И все прочее!
У меня перехватило дыхание, и даже в мерцающем свете моей свечки можно было разглядеть, как он улыбнулся мне, не поднимаясь с подушки.
– Прочее – что это?
– О, вы знаете, знаете!
На мгновение я лишилась дара речи, хотя чувствовала, держа Майлса за руку и не сводя с него глаз, что в моем молчании – знак согласия с его вызовом и что в целом мире реальности, наверно, не было ничего столь фантастического, как эта связь между нами.
– Ты несомненно вернешься в школу, – сказала я, – если именно это тебя тревожит. Но не в прежнюю – мы должны найти другую, лучшую. Скажи, как я могла узнать, что тебе этого хочется, если ты ничего не говорил, никогда ни слова?
Он внимательно слушал, его чистое лицо, обрамленное гладкой белизной, казалось умоляющим, как бывает у печальных пациентов детских больниц; и, заметив это сходство, я бы отдала все, чем владела на земле, чтобы на самом деле стать сиделкой или сестрой милосердия и помочь исцелить его. Но и в своем положении я, быть может, помогу!
– Ты знаешь, что никогда не вспоминал о школе, той, прежней, даже не обмолвился о ней при мне?
– Неужели?
Мне показалось, что он удивился, но улыбался все так же ласково. Видимо, он тянул время, выжидал, рассчитывал на подсказку. Но не от меня он ждал помощи – а от той, которую я встретила днем!
Что-то в его тоне и выражении лица стиснуло мое сердце такой болью, какой я еще не испытывала; невыразимо трогателен он был, пытаясь усилием своего маленького мозга выбраться из ловушки и найти в себе силы убедительно сыграть, под напором действующих на него чар, роль невинности.
– Точно, ни разу с того часа, когда ты приехал. Я не слышала от тебя ни слова об учителях, о товарищах, ни единой истории о том, что случалось с тобою в школе. Никогда, мой маленький Майлс, никогда не дал ты мне ни малейшего намека на то, что могло случиться там. Представь же теперь, в каких потемках я блуждаю. До того, как ты раскрыл свои мысли этим утром, с первого часа нашего знакомства и доныне, ты вообще ни звука не проронил о том, как жил раньше. Мне казалось, что ты вполне доволен настоящим.
Чрезвычайно странно получилось: будучи твердо убеждена, что Майлс развит не по летам (или, можно сказать, отравлен влиянием, которое я не осмеливалась назвать прямо), я воспринимала его как взрослого, почти равного мне интеллектом, хотя и улавливала слабо заметные признаки его душевного разлада.
– Я думала, ты доволен тем, как живешь здесь.
Меня поразило, что он лишь слегка покраснел. Да еще соизволил томно покачать головой, словно слегка устал, как выздоравливающий больной.
– Ничуть, ничуть. Я хочу уехать.
– Тебе надоел Блай?
– О нет, Блай мне нравится.
– В чем же тогда?..
– Ах, вы ведь знаете, чего хотят мальчики!
Поскольку я знала об этом явно меньше, чем Майлс, пришлось временно поменять тему.
– Ты хотел бы пожить у дяди?
Он снова, с милой иронической гримаской, помотал головой по подушке.
– Ах, вы не можете выпутаться таким образом!
Я помолчала и на этот раз, кажется, покраснела сама.
– Мой дорогой, я и не хочу выпутываться!
– Хоть бы и так, все равно не сможете. Никак, никак! – Не поднимаясь, он уставился на меня своими чудесными глазами. – Дядя должен приехать сюда, и вы с ним должны все уладить.
– Если мы этим займемся, – резко ответила я, – можешь быть уверен, что тебя отправят очень далеко.
– Да разве вы не понимаете, что я этого-то и добиваюсь? Вам придется рассказать ему… Про то, как вы забросили это дело. Много-много всего рассказать!
Он разволновался, и это помогло мне перейти в наступление.
– А ты, Майлс, не расскажешь ли тоже кое-что? Дядя будет расспрашивать тебя!
Он не дрогнул.
– Весьма возможно. Но о чем?
– О том, чего ты никогда не рассказывал мне. Ему нужно будет решить, что с тобой делать. Он не может послать тебя обратно…
– О, я и не рвусь обратно! – перебил он. – Мне нужно новое поле.
Он сказал это с восхитительным спокойствием, с безукоризненной веселостью; и, несомненно, эти интонации раскрыли передо мной пронзительную, недетскую трагедию ребенка, ожидающего, при всей его браваде, возвращения, спустя три месяца, туда, где его ждет новое бесчестие. Я содрогнулась, чувствуя, что не смогу этого перенести, и отступила. Я склонилась к нему, во власти нежности и сочувствия, и обняла его.
– Майлс, дорогой мой маленький Майлс!
Мое лицо почти касалось его щеки, и он, позволив поцеловать себя, спросил добродушно:
– И что вам угодно, почтенная леди?
– Ты ничего не хочешь мне сказать? Совсем ничего?
Он немного отвернулся к стенке, поднял одну руку и стал рассматривать, как часто делают больные дети.
– Я уже сказал вам… сегодня утром.
О, как мне было жаль его!
– Значит, ты просто хочешь, чтобы я тебя не беспокоила?
Он оглянулся на меня, как бы благодаря за понимание; потом произнес мягко:
– Оставить меня в покое.
В этом ответе было своеобразное достоинство, и я, отпустив его, медленно поднялась, но не ушла. Видит бог, я никогда не хотела мучить Майлса, но чувствовала, что просто уйти сейчас, повернувшись к нему спиной, значит бросить, а еще точнее, потерять его.
– Я уже начала письмо к твоему дяде.
– Так нужно дописать его! – сказал он.
Я выждала минуту.
– Что случилось раньше?
– Раньше чего? – он снова уставился на меня.
– Перед тем, как ты вернулся. И до того, как уехал оттуда.
Он помолчал, но глаз с меня не сводил.
– Что случилось?
В этих словах мне послышалось, впервые за все время, слабое колебание пробудившейся совести; я упала на колени у кровати, снова надеясь овладеть им.
– Майлс, маленький Майлс, если бы ты знал, как я хочу помочь тебе! Только этого хочу, ничего кроме этого, я скорее умру, чем причиню тебе боль или вред, я не дала бы и волоску упасть с твоей головы. Дорогой мой Майлс, – о, я не беспокоилась тогда, что захожу слишком далеко, – я хочу лишь, чтобы ты помог мне спасти тебя!
Но я тотчас поняла, что слишком поторопилась. Ответ на мой призыв пришел мгновенно, но ответ не словесный: мощный порыв ветра ворвался в комнату, неся дыхание ледяного холода, стены дрогнули, как будто яростный шквал выбил раму. Мальчик громко, пронзительно вскрикнул, и хотя я стояла рядом, среди рева и грохота не могла различить, был ли то вопль ликования или ужаса. Я вскочила на ноги и обнаружила, что вокруг темно. Мы молчали, пока я оглядывалась; мне удалось рассмотреть, что занавески задернуты, как были, и окно закрыто. Тогда я воскликнула: