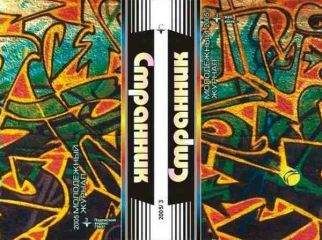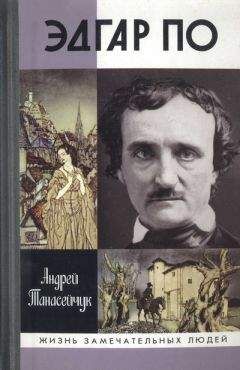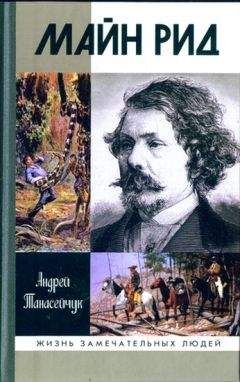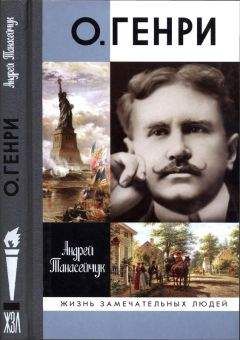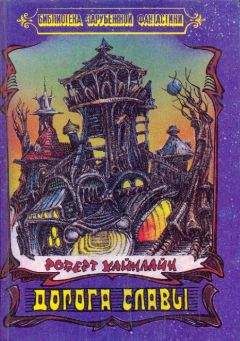Наставники Лавкрафта (сборник) - Джеймс Монтегю Родс
Для начала я ушла прочь от церкви; выйдя из ворот, я проделала весь знакомый путь через парк, глубоко задумавшись. Подойдя к дому, я уже полагала, что решение принято и нужно бежать. Воскресная тишина царила и вокруг дома, и внутри, все мне благоприятствовало. Я ни с кем не столкнулась, если уйти быстро, то не будет ни сцен, ни шума. Однако мне следовало очень поторопиться, тем более что нужно было еще решить сложный вопрос с экипажем. Трудности и препятствия так обступили меня, что, войдя в холл, я опустилась на ступеньку у подножия лестницы, буквально упала, и тут же с отвращением вскочила – мне вспомнилось, что именно на этом месте больше месяца назад, во тьме ночи, отягощенной злом, я видела призрак самой ужасной из женщин. Это помогло мне распрямиться; я поднялась наверх и, озабоченная, зашла в классную комнату, чтобы забрать кое-какие нужные личные вещи. Но стоило мне отворить дверь, как пелена мгновенно спала с моих глаз. То, что я увидела, пробудило во мне способность к сопротивлению.
За моим столом, в ясном свете полудня, я увидела фигуру, которую, не будь у меня уже опыта, я приняла бы с первого взгляда за горничную, оставленную приглядеть за домом – словно она, пользуясь редким случаем отсутствия надзора, а также столом в классной комнате, моими перьями, чернилами и бумагой, предприняла непростое дело – сочинение письма своему ухажеру. Непростой была ее поза: локти опирались на стол, а ладони, жестом явной усталости, поддерживали голову; но тут же я заметила, что мое появление почему-то не заставило ее пошевелиться. И как только у меня мелькнула догадка, женщина встала, и я опознала ее по тому, что она по-прежнему не слышала меня. Она стояла с выражением бесконечной меланхолии, неописуемого безразличия и отчужденности, шагах в десяти от меня – моя ужасная предшественница. Обесчещенная и трагичная, она помедлила, как бы давая себя рассмотреть и запомнить, но сдвинулась с места, и вот страшное видение исчезло. Темная как полночь в своем черном платье, изможденная и прекрасная, воплощение невыразимого горя, она смотрела на меня достаточно долго, чтобы я поняла: у нее не меньше прав сидеть за этим столом, чем у меня.
Мгновения тянулись, и мне вдруг стало холодно от мысли, что на самом деле это я здесь незваная гостья. Но, как вспышка яростного протеста, у меня вырвался крик: «Вы гадкая, жалкая женщина!» – и звук моего голоса унесся в открытую дверь и, пролетев по длинному коридору, угас в пустом доме. Она взглянула на меня, будто услышала, но этим и закончилось. В следующую минуту в комнате не осталось ничего, кроме солнечного света и ощущения, что я должна остаться.
Я была совершенно уверена, что мои ученики по возвращении сыграют сценку, но пришлось с огорчением отметить, что о моем отсутствии они не упомянули. Вместо того, чтобы весело упрекнуть и приласкать меня, они и словом не обмолвились насчет причиненного им ущерба и на время оставили меня в покое, дав возможность изучить странное выражение на лице Гроуз, которая тоже ничего не сказала. Я пришла к выводу, что дети чем-то подкупили ее, вынудив молчать; молчание это я собиралась взломать, как только мы окажемся с ней наедине. Случай представился незадолго до вечернего чаепития: улучив пять минут, я застала экономку в ее комнате, опрятно убранной и нарядной, где пахло свежеиспеченным хлебом; она сидела в полумраке у камина, с виду спокойная, но невеселая. Я и сейчас вижу ее такой – вижу самый лучший из ее образов: сидя на стуле с прямой спинкой, она смотрит в огонь посреди сумеречной, чистенькой комнаты, в «замкнутом» состоянии – ящики закрыты, заперты на ключ, а отдых не приносит отрады.
– О да, они попросили меня ничего не говорить; и чтобы сделать им приятное, пока мы были там, я, конечно, пообещала. Но что же с вами случилось?
– Я хотела только прогуляться вместе с вами, а потом вернуться, – сказала я. – Нужно было встретиться с друзьями.
– У вас здесь есть друзья? – удивилась она.
– О да, есть парочка! – засмеялась я. – Но дети как-то объяснили свою просьбу?
– Не упоминать о том, что вы нас оставили? Да, они сказали, что вам так будет лучше. Вам стало лучше?
– Нет, мне стало хуже! – Взглянув на меня, Гроуз приуныла, но я продолжала: – А почему мне так будет лучше, сказали?
– Нет. Мастер Майлс сказал только: «Мы должны делать только то, что ей нравится!»
– Жаль, что на деле это не так. А что сказала Флора?
– Мисс Флора так добра. «Конечно, конечно!» Ну и я сказала то же самое.
– Вы все так добры… – ответила я, подумав. – Прямо так и слышу ваши голоса. Но тем не менее между Майлсом и мной все теперь кончено.
– Кончено? – моя соратница округлила глаза. – Но что, мисс?
– Все вообще. Это неважно. Но я приняла решение. Я вернулась домой, моя дорогая, чтобы побеседовать с мисс Джессель.
К этому времени у меня сложилась привычка держать Гроуз в руках в прямом смысле слова, прежде чем затрагивать эту тему; и сейчас мне удалось поддержать ее – она только моргнула, храбро приняв услышанное.
– Побеседовать! Значит, она заговорила?
– По сути, да. Я нашла ее в классной комнате.
– И что она сказала? – Я словно слышу сейчас голос доброй женщины и вижу ее откровенную оторопь.
– Что терпит муки!
– То есть как, – пробормотала она, сообразив, что я имею в виду, – муки… падших?
– Падших. Проклятых. И она жаждет, чтобы кто-то разделил с ней… – тут я сама осеклась, ужаснувшись.
Но моя подруга, лишенная воображения, потребовала уточнить:
– Разделил… что?
– Она хочет забрать Флору.
Услышав это, миссис Гроуз могла бы свалиться на пол, если бы я заранее не приготовилась. Я удержала ее, дав понять, что я всегда начеку.
– Однако, как я уже сказала, это неважно.
– Потому как вы уже решили? Но что?
– Все решила.
– И что по-вашему будет «все»?
– Да просто позвать сюда их дядю.
– О мисс, сжальтесь над ними! – вырвалось у экономки.
– Ах, я сделаю, сделаю это! Не вижу иного выхода. А с Майлсом вот что: он думает, что я побоюсь обеспокоить джентльмена, и видит, какую выгоду может из этого извлечь, но я покажу ему, что он ошибается. Да-да, его дядя услышит от меня немедленно (и раньше, чем сам мальчик, если понадобится), почему меня нельзя упрекнуть в нежелании подыскивать новую школу…
– И почему же, мисс? – нетерпеливо спросила Гроуз.
– Да по все той же причине.
Причин к тому времени накопилось уже так много, что моей бедной подруге немудрено было запутаться.
– Но… эээ… по которой?
– Вспомните о письме из его прежней школы.
– Вы покажете его хозяину?
– Мне следовало сделать это сразу же.
– О нет! – запротестовала миссис Гроуз.
– Я прямо заявлю ему, – продолжала я неумолимо, – что затрудняюсь заниматься этим вопросом относительно ребенка, который был исключен…
– А нам до сих пор неизвестно, за что! – вставила миссис Гроуз.
– За зловредность. А за что еще – если он такой умный, красивый, само совершенство? Разве он глуп? Неряшлив? Чем-то болен? Или груб? Он безупречен – так что остается лишь это; и в этом кроется ключ ко всей ситуации. В конечном счете, – добавила я, – вина лежит на их дяде. Как он мог оставить детей на произвол подобных людей!
– Да он на самом-то деле тех двоих и не знал вовсе. – Гроуз сильно побледнела. – Виновата я.
– О, вы не должны пострадать.
– Дети пострадать не должны! – горячо возразила она. Мы молча переглянулись.
– Что мне следует сообщить ему?
– Ничего не следует. Я сама сообщу.
– Вы намерены написать?.. – Я вспомнила, что экономка неграмотна, и осеклась. – Как же вы справляетесь?
– К бейлифу [18] обращаюсь, говорю, что надо. Он пишет.
– И вы готовы поведать ему нашу историю?
Вопрос прозвучал более саркастично, чем мне хотелось, и оказал на Гроуз сокрушительное воздействие. Слезы вновь заблестели в ее глазах.