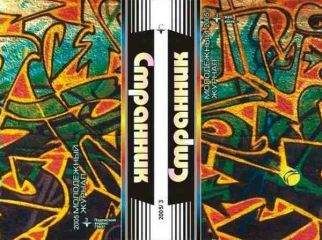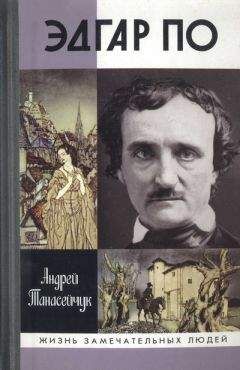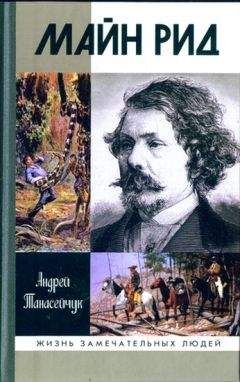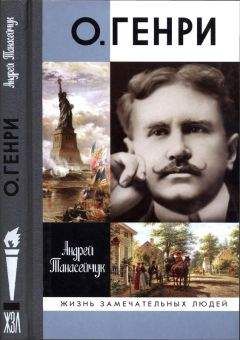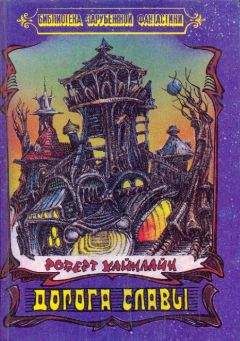Наставники Лавкрафта (сборник) - Джеймс Монтегю Родс
– Вы же знаете, дорогая мисс, что значит для юноши постоянно быть в обществе леди!..
«Дорогая мисс» – так он всегда меня называл, и ничто не могло точнее выразить тот оттенок чувства, который я старалась внушить ученикам, как это ласково-фамильярное обращение, такое простое и вместе с тем уважительное.
Но как же осторожно мне самой теперь нужно было выбирать выражения! Чтобы выиграть время, я делано рассмеялась, но по красивому лицу мальчика, следившего за мной, поняла, как уродливо и нелепо я выгляжу.
– И к тому же всегда с одной и той же леди? – отпарировала я.
Он не побледнел, не сморгнул. Все тайное становилось явным между нами.
– Ах, конечно, эта леди приятная, «идеальная»; но я же все-таки юноша, вы разве не понимаете? Это… ну, в общем, я расту.
– Да, ты растешь, – я еще сохраняла доброжелательный тон. О, но какой же беспомощной я себя чувствовала!
До сего дня я не разрешила эту тягостную загадку: откуда мальчик мог узнать о моем состоянии и сыграть на этом?
– И вы же не можете сказать, что я не был ужасно хорошим, правда?
Я положила руку ему на плечо; хотя нам следовало бы идти дальше, я пока была не в силах сдвинуться с места.
– Нет, такого я сказать не могу, Майлс.
– Кроме той ночи, вы помните!..
– Той ночи? – Я не смогла глянуть на него так же прямо, как он – на меня.
– Ну, когда я ушел… вышел из дому.
– Ах, да. Но я забыла, зачем ты это сделал.
– Забыли? – упрекнул он меня с милой детской непосредственностью. – А я хотел показать вам, что сумею!
– О да, ты сумел.
– И еще сумею!
Я наконец почувствовала, что, возможно, мне удастся сохранить здравый рассудок.
– Конечно. Но ты этого не сделаешь.
– Нет уж, не то же самое снова. То была просто чепуха.
– Чепуха, – сказала я. – Но нам нужно идти дальше.
Мы зашагали дальше, и мальчик держал меня за руку.
– Так когда же я вернусь?
– Был ли ты счастлив в школе? – спросила я с весьма озабоченным видом.
– О, я достаточно счастлив где угодно! – не раздумывая ответил он.
– Ну, если так, – протянула я, – если ты и здесь так же счастлив…
– Ах, но здесь не все есть! Конечно, вы знаете много всего…
– Ты намекаешь, что узнал уже почти столько же? – рискнула я спросить, пользуясь паузой.
– Я бы хотел знать вдвое больше! – честно признался Майлс. – Но не только в этом дело.
– Тогда в чем же?
– Ну… я хотел бы увидеть больше жизни.
– Да-да, понимаю.
Мы уже приблизились к церкви; люди, в том числе несколько служащих из Блая, сходились к ней с разных сторон и толпились у входа, ожидая, когда мы войдем. Я ускорила шаги; мне хотелось войти в церковь раньше, чем прозвучит следующий ответ; я нетерпеливо ждала начала службы – тогда целый час он не сможет нарушить молчание; меня манили относительный сумрак нашей скамьи и почти духовная поддержка подушечки, на которую я смогу преклонить колени. Я словно бежала наперегонки со смятением, в которое мальчик готовился повергнуть меня, но он успел первым, раньше, чем мы достигли церковных ворот:
– Я хочу быть среди равных мне!
Я рванулась было вперед и чуть не упала.
– Равных тебе не так уж много, Майлс! – засмеялась я. – Разве что милая малышка Флора!
– Вы в самом деле сравниваете меня с девчонкой-малолеткой?
Слабость одолевала меня.
– Значит, ты не любишь нашу милую Флору?
– Если бы я не любил… и вы тоже… если бы я не!.. – повторил он, как бы разбегаясь перед прыжком, но осекся на полуслове, а когда мы прошли в ворота, так сжал мою руку, что пришлось снова остановиться. Миссис Гроуз и Флора уже вошли в церковь, другие прихожане последовали за ними, и мы на несколько минут остались одни среди старых могил, стоя на дорожке, ведущей от ворот, рядом с низким, похожим на стол надгробием.
– Итак, если бы ты не?..
Я ждала, а он смотрел на могильные плиты.
– Ну, вы сами знаете! – ответил он, не пошевельнувшись, и вдруг выдал такое, что я рухнула на каменную плиту, словно вдруг вздумала отдохнуть. – Мой дядя думает так же, как и вы?
– Откуда тебе знать, что я думаю? – помедлив, спросила я.
– Ну, конечно, я не знаю; мне странно, что вы об этом никогда не говорите. Но мне хотелось бы услышать, знает ли он?
– Знает что, Майлс?
– Ну, что тут у нас происходит….
Я сразу сообразила, что невозможно ответить на этот вопрос, не пожертвовав частично покоем моего работодателя. Но мне представилось, что мы все, в Блае, принесли уже достаточно жертв, чтобы теперь стесняться.
– Твоего дядю это вряд ли сильно заботит.
Майлс взглянул на меня.
– Значит, вы не думаете, что его можно заставить озаботиться?
– Каким образом?
– Понятно каким, пусть приедет сюда.
– Но кто сможет вызвать его?
– Я смогу! – сказал мальчик с удивительной живостью и нажимом. Он окинул меня столь же уверенным взглядом, а потом сам вошел в церковь.
Все было практически решено в тот момент, когда я позволила мальчику уйти одному. Дав волю чувствам, я потерпела поражение, достойное жалости, но, понимая это, не находила сил оправиться. Я просто сидела на надгробии и вдумывалась в слова моего маленького дружка, постигая всю полноту их значений; наконец я все поняла и заодно придумала, как объяснить свое отсутствие на богослужении: мне якобы стало стыдно за свое опоздание перед учениками и остальной паствой. Суть всего сказанного заключалась в том, что Майлсу удалось добиться от меня некоего признания, доказательством важности которого стали для него мои неуклюжие отговорки. Он выяснил, что я чего-то сильно боюсь и что он, вероятно, сможет воспользоваться моим страхом для собственных целей, получив большую свободу. Главный мой страх был связан с необходимостью решить мучительный вопрос о причинах его отчисления из школы, ибо это была одна из сторон другого вопроса – об ужасах, кроющихся за ними. Если бы опекун детей явился, чтобы обсудить со мной эти дела, такое решение, по сути, мне бы следовало приветствовать; но выдержать боль, неминуемую при вскрытии мерзких тайн, у меня не хватало духу, и я просто мешкала и жила в бездействии изо дня в день. К моему великому смятению, я признавала полную правоту мальчика; в его положении он мог сказать мне: «Либо вы выясняете с дядей тайну перерыва в моих занятиях, либо не ждите, что я и дальше буду вести рядом с вами жизнь, настолько неестественную для мальчиков». А для меня, неравнодушной к судьбе данного конкретного мальчика, неестественным казалось наличие у него какого-то умысла и плана, так неожиданно проявившегося.
Именно это так сильно ушибло меня, это помешало мне войти. Я ходила вокруг церкви, сомневаясь, спотыкаясь; я понимала, что отношения с Майлсом испорчены уже непоправимо. Склеить ничего нельзя было, и лишь огромным усилием воли я заставила бы себя сесть рядом с ним на скамью: он непременно взял бы меня за руку, прижался и заставил просидеть час в тесном, молчаливом контакте, вспоминая наш разговор. Впервые со дня его приезда я хотела отстраниться от него. Остановившись под высоким восточным окном и прислушиваясь к звукам богослужения, я ощутила такой порыв к бегству, что поддалась бы ему немедленно, если бы хоть немного расслабилась. Я так легко могла бы положить конец своим тревогам, просто уехав прочь. У меня имелся шанс: некому было остановить меня, я могла все бросить, повернуться спиной и отступить. Нужно было только поспешить вернуться в дом, чтобы наскоро собраться, – почти все слуги сидели сейчас в церкви, никто бы меня не увидел. Одним словом, никто не осудил бы меня, соверши я этот отчаянный побег. Я успела бы уехать, ведь меня ждали только к обеду! До обеда остается еще пара часов, а когда они пройдут – я отчетливо представила себе эту картину, – мои маленькие ученики разыграют сценку невинного удивления по поводу моего отсутствия.
«Что же вы сделали, нехорошая, злая? Почему, скажите, вы так огорчили нас, и мы отвлеклись от проповеди, понимаете? Как же вы нас бросили прямо у входа?» Я не выдержала бы ни подобных вопросов, ни их лживо-любящих взглядов; между тем именно это и должно было произойти, и я так явственно представила себе эту сцену, что наконец решилась уехать.