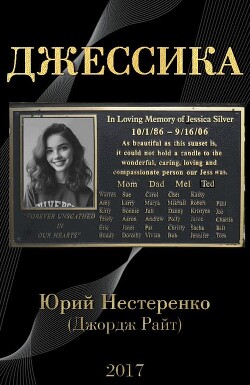Место (СИ) - Нестеренко Юрий Леонидович
Только после этого он решился посмотреть в зеркало. Делать это было страшно, но остаться в неведении — еще страшнее… а главное, прятаться от правды не только бессмысленно, но и вредно. Надо знать, сколько еще у него времени…
Зрелище оказалось вполне достойно фильма ужасов, авторы которого не экономят на спецэффектах. Трещины на изжелта-белом лице стали еще шире, разойдясь рваными зазубренными краями. И насчет носа он оказался неправ: тот заметно вытянулся вперед, увлекая за собой часть лба и верхней челюсти. А не заметил он этого потому, что его глаза расползлись в стороны, изменив угол обзора… Кроме того, Евгений терял волосы. На фоне всего прочего это можно было бы счесть пустяком, но он терял их вместе с кожей.
Но, по крайней мере, руки у него еще были. Кожа на тыльной стороне ладоней тоже утратила чувствительность и начала трескаться, но пальцы все еще могли держать карандаш. И значит, как бы плохо ему ни было, морально и физически — он должен продолжать свою работу. Возможно, его записи окончатся бессмысленными каракулями, но, пока он еще может, он будет писать — столько, сколько успеет…
Теперь все было гораздо хуже, чем накануне. Изменения, происходившие с его телом, мешали сосредоточиться на работе. Казалось, что его кости выкручивает какая-то пыточная машина, а в голову под давлением накачивают жидкий металл; растущий горб упирался в спинку стула, заставляя постепенно сдвигаться вперед, пока Евгению не пришлось балансировать на самом краешке; джинсы пропитались выделениями лопающейся кожи, и в конце концов он брезгливо стянул с себя липкие тряпки вместе со всем, что к ним пристало. Кажется, у него больше не было гениталий, но об этой потере он сожалел меньше всего… Он лишь вяло отметил про себя, что, кажется, со вчерашнего дня ему так ни разу и не потребовалось в туалет, и тут же забыл об этом.
Но его мозг все еще работал, и пальцы тоже. Его грифель скользил так быстро, что порою ломался или рвал бумагу. В какой-то момент Евгений испытал ужас — НАСТОЯЩИЙ ужас — когда понял, что длинная цепочка формул не ведет к интуитивно ожидаемому красивому выводу; однако он принялся проверять последовательность преобразований с начала и обнаружил ошибку. Со второго раза все сошлось…
Было еще светло, когда, исписав почти всю найденную в кабинете чистую бумагу, он закончил.
Горб не позволил ему удовлетворенно откинуться, и все же некоторое время он любовался этой кипой листов. До нобелевки, конечно, на этой стадии еще далеко, но для начала — публикация в Astrophysical Journal… м-да. Он аккуратно подровнял стопку и вместе с тетрадью положил в сейф на верхнюю полку. Затем заправил обратно в машинку лист, оставленный там Грибовцевым, и засунул ключ от сейфа в наволочку. Нельзя было оставлять свой труд просто на столе — мало ли какая тварь может сюда забрести…
Включая его самого.
Да. Он понял, что может представлять опасность для собственного детища. Пока его мозг еще в порядке, но кто знает, что будет уже через полчаса… Существа, разгромившие лабораторию и изорвавшие в клочки тамошние записи, тоже когда-то были научными работниками.
Значит, он должен уйти отсюда, как можно скорее и дальше.
Или все-таки «выход Грибовцева»? Теперь, когда дело доделано? Но мысль об этом вызвала у него теперь даже не животный страх смерти, а возмущение: как это — уничтожать все еще действующий разум? Это еще худший вандализм, чем погром в лаборатории!
Евгений тяжело поднялся. Ему по-прежнему было плохо, он чувствовал боль во всем теле, и вдобавок едва не упал назад из-за изменившегося центра тяжести — но что-то помогло ему удержаться. Он рефлекторно оперся на это — и лишь затем осознал, ЧТО это такое. Хвост! О боже-которого-нет, у него вырос хвост…
Выходя, Евгений вынужден был пригнуться, чтобы не удариться головой о притолоку, и понял, что стал заметно выше. Подойдя к входной двери, он убедился, что теперь ему уже не протиснуться мимо дерева на крыльце… Могутина? Неужели это — Могутин? Последний участник экспедиции, еще остающийся в живых… если только это можно назвать жизнью. Едва ли от его сознания осталось хоть что-то… Кстати, ведь это уже вторая его трансформация — когда в него стреляли, он еще не был деревом. Может, как раз потому, что пули погубили мозг, но не тело, его новая сущность стала такой…
Евгений выбрался наружу через окно. Теперь он легко шагнул туда, зато протиснуть через прямоугольный проем свое горбатое тело было намного сложнее. Оказавшись, наконец, на свободе, он почувствовал себя совсем обессиленным. Он сделал несколько шагов, едва волоча ноги (и хвост), запнулся и повалился на траву. Он помнил о своем намерении уйти подальше от дома, а также и о том, что местная трава может быть далеко не безопасным ложем; я только отдохну пару минуток, сказал он себе, а потом… потом…
Он провалился не то в сон, не то в обморок.
Когда он пришел в себя, было раннее утро. Боль ушла. Тяжесть исчезла. Вообще, он чувствовал себя полным сил и отлично выспавшимся. Ему захотелось с удовольствием потянуться, и он сделал это, не отдавая себе отчета, что его руки неподвижны…
Его горб лопнул с сухим треском и осыпался кусками мертвой кожистой скорлупы. А за спиной с тихим шелестом упруго развернулись крылья.
Тот, кто прежде называл себя Евгением Дракиным, поднялся и выпрямился, сдирая последние ошметки человеческой плоти со своего тела — великолепного тела черного дракона. А затем легко оттолкнулся от земли и устремился ввысь.
«Но этого не может быть! — крикнул прежний Евгений из дальнего уголка его сознания. — Драконы не могут летать в условиях земной силы тяжести и плотности воздуха, законы аэродинамики не позволят, ни одному живому существу такой массы не хватит мощности…»
Тем не менее, он летел. Летел все выше, оставляя позади, внизу, дом-могильник, сгнивший локомобиль, псевдорельсы, мертвые трамваи, хижину Алисы и весь этот лес со всеми бродящими, ползающими и копошащимися там тварями… Вскоре все эти заросли на дне окруженной стеной котловины казались не более чем плесенью на дне чашки Петри…
А навстречу неслась серая пелена, бесследно растворяющая метеозонды. Но он бесстрашно нырнул в нее, как в обычный туман. И она действительно окутала его, подобно туману, окончательно заволакивая то, что осталось внизу. И точно так же, как очертания леса и котловины, таяла теперь его прежняя жизнь. Московский дом, родители, кафедра, приятели, даже его радости по поводу первых публикаций в рецензируемых журналах и честолюбивые планы и мечты, не исключавшие в перспективе Нобелевскую премию — все это стало таким далеким и неважным…
А потом он вырвался из серой мути в распахнувшийся простор. И увидел звезды.
Он понял, что находится вовсе не в иной галактике. Очертания созвездий были земными. Но сами звезды… Он видел их не так, как видят люди. И даже не так, как видят приборы. Он наблюдал их сияние сразу во всех диапазонах спектра, от длинноволнового до рентгеновского, и это было зрелище немыслимой красоты; и космос вокруг него не был черной пустотой — его пронизывали и наполняли переливающиеся краски, которым нет названия в человеческих языках, великая торжественная феерия вечной и вечно меняющейся Вселенной… Он понял, наконец, что аэродинамика тут ни при чем. Он не нуждался больше в воздухе ни для полета, ни для дыхания. Его крылья были нужны для того, чтобы впитывать энергию Космоса. (Что за глупость — считать черный цветом невежества! Это белое отражает и отвергает свет, энергию, информацию, а черное — поглощает и впитывает их…)
Точно так же он больше не нуждался для познания в приборах и компьютерах. Он познавал Вселенную напрямую; он уже знал, что его теория верна, но она — лишь малая частность куда более грандиозного знания, которое ему предстоит постигнуть. И он знал, что больше не привязан ни к Земле, ни к Солнечной системе; весь бескрайний Космос открыт ему. А еще он знал, что встретит среди звезд существ, подобных себе…
Все правильно: пути назад нет. И остаться, кем был, нельзя. Можно только вниз — или вверх.