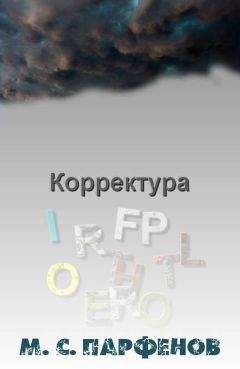"Самая страшная книга-4". Компиляция. Книги 1-16 (СИ) - Парфенов Михаил Юрьевич
Удар ногой угодил мне в челюсть. В голове будто бомба взорвалась. Я опрокинулся на спину, а Мартын оседлал меня и, схватив за волосы, поднес нож к горлу.
– Ну что, – выдохнул он, – теперь тебе не все равно?
Позади него скулила на полу Леля.
Я рванулся, но его пальцы были словно из железа отлиты. Холодное лезвие взрезало мою кожу.
– Раз, – сказал он.
Леля с трудом вставала. Ее лицо было искажено болью, но она поднималась, поднималась!
– Два…
На счет «три» я плюнул ему в лицо собственными зубами. Разбитый рот отозвался ледяной болью, но ничто в жизни не доставляло мне большего удовольствия. Вскрикнув, Мартын отпрянул. И тогда Леля врезала ему по физиономии кулаком, из которого выглядывал винт потолочного крюка.
Витой болт пробил левый глаз Мартына. От его вопля, казалось, содрогнулись стены подвала. Его кулак достал Лелю в живот, и она отлетела, выдернув болт с отвратительным чмоканьем.
Но главное – Мартын выронил нож. Это была первая его ошибка, и она же стала последней. Когда он снова повернулся ко мне, зажимая рукой истекающую кровавой слизью глазницу, я встретил его ножом.
За Лелю! За Стрижку! За тетю Зину! За Цыгана с Валькой! За всех и за каждого!
Я бил в правую часть живота, стараясь попасть в печень, чувствуя, как бежит по руке горячая кровь. Мартын перехватил мое запястье, но от крови оно стало скользким, и я высвободился, раскроив ему пальцы до кости вместе с перчаткой. Тогда он вцепился мне в глотку другой рукой, и перед моими глазами опять заплясали огненные мухи…
– Мразь! – прорычала Леля зверенышем и, обхватив Мартына за плечи, несколько раз воткнула винт ему в горло. С хрипом он рухнул вперед, насадившись грудью на нож. Кровь выплеснулась у него изо рта, окропив мне лицо.
Леля повалилась на колени, судорожно всхлипывая.
Мартын придавил меня мертвым грузом. Его голова лежала у меня на груди, пропитывая кровью майку. В уцелевшем глазу застыло почти детское удивление.
Должно быть, он в какой-то момент уверовал в свою неуязвимость. Возомнил, будто страдать и истекать кровью могут все, кроме него.
– Шах и мат, – просипел я.
Николай Юрьевич Мартынов (14 апреля 1975 – 19 октября 2004) – советский и российский серийный убийца. Первое преступление совершил в возрасте шестнадцати лет, жертвой стала его четырнадцатилетняя сестра Татьяна, страдавшая отставанием в развитии. Перед этим он подбил своих приятелей изнасиловать беспомощную девочку, что позволило ему обвинить их и в убийстве…»
Так начинается статья о Мартыне в «Википедии» – и так заканчивается история Кровавых мальчиков. Я остался последним. Мальчик, который выжил.
Я тоже упомянут в статье, как и Леля – спустя годы нам с большим трудом удалось отучить нашу дочку хвастаться друзьям, что ее мама и папа «настоящего маньяка́ грохнули!». Там нашлось место даже официантке Ирине Лещук из кафе «Коко», подруге тети Зины, которая заботилась о ней до того, как Мартын вернулся из армии. В ту страшную ночь именно Лещук позвонила Мартыну, как только мы ушли, и предупредила, что его старые друзья снова в городе. «Надеюсь, ты их убьешь», – так она сказала ему. Она плакала, рассказывая об этом в зале суда, и, глядя на нее, я вспомнил, где видел ее раньше – в том самом зале, рядом с тетей Зиной.
Судебное заседание наделало шуму. Прокурор требовал вкатить мне пять лет. Самооборона самообороной, но я нанес бедному-несчастному Мартынову с десяток ножевых, когда тот был ранен, безоружен и «заведомо неспособен сопротивляться», что, безусловно, делало меня крайне опасным для общества. Он спросил, раскаиваюсь ли я в содеянном. Я многое хотел сказать, но, поймав испуганный Лелин взгляд, просто ответил, что нет, не раскаиваюсь, и получил пятерку условно.
Я солгал. Я раскаиваюсь в том, что забил ножом своего друга детства. Я должен был сделать это трубой много лет назад. Не потому, что мы едва не стали последними жертвами Мартына (кстати, точное их число не установлено до сих пор), не потому, что наша дочь выжила лишь чудом, а Леля больше не сможет иметь детей. Просто таких, как он, не должно быть на свете.
Кошмары до сих пор мучают меня, хотя с той октябрьской ночи прошло уже пятнадцать лет. В следующем году наша Таня заканчивает школу.
Та, в честь кого мы ее назвали, до сих пор является мне по ночам, когда я задыхаюсь во сне от ужаса. Муравьишки, великие труженики, всюду сопровождают свою королеву, неистребимые в своем извечном, упорном стремлении к жизни.
Стрижка обнимает меня крепко-крепко и шепчет: «Ничего не бойся, мальчик».
И кошмары отступают.
Змей
Полуденное солнце расплавилось высоко в небе, вытравив утреннюю голубизну до малярийно-желтого. Полковник обвел глазами, залитыми едким потом, притихшую толпу и вдруг понял, что все это было уже много-много раз. Были эти жалкие хижины, которые ни один белый не назвал бы жильем и которые, тем не менее, им служили; были пальмы, растопырившие листья в знойном мареве; были безымянные черные, женщины, дети и немощные старики, выстроившиеся беспорядочной шеренгой, и были белые – молодые мужчины, чьи имена он знал наперечет, стоявшие перед черными ровным строем с оружием в руках. Первые ждали своей участи, вторые – приказа, и он знал, что приказ отдаст. Первые были, конечно, уже мертвы; вторые – еще живы, более того – жизнь кипела, бурлила в них, порой переливаясь через край потоком обжигающей жестокости. Все повторялось раз за разом, и не было этому конца и края.
– Где они? – в который раз спросил он, все еще надеясь, что сейчас будет по-другому, что кто-то – хотя бы один! – возьмет и ответит, и тогда все начнется и закончится гораздо раньше.
Но ответила лишь какая-то птица в лесу – заорала надсадным, раздирающим уши криком, и Полковник подумал, что скоро так же будут орать и молчаливые люди, стоявшие перед ним. Они все орали, когда ребята, стоявшие за ним, принимались за дело.
Почему они никогда даже не просят пощады?
Солнце сочилось с неба расплавленным свинцом – не спасал и черный берет. Он единственный во взводе носил берет – ребята предпочитали кепки. В молодости Полковник считал, что берет – это элегантно; кроме того, берет ассоциировался у него отнюдь не с военщиной, а с художниками. Сейчас же ему было противно все: и берет, и жара, и выстроившиеся за спиной головорезы, смердящие потом и бессмысленной злобой, и безмолвные аборигены в драных грязно-белых одеждах, глядевшие на него овечьим взглядом, и прошлое, и настоящее с будущим. Хотя нет. Прошлое было ничего. Отдаленное прошлое.
Мысли путались, перескакивая с одного на другое. Берет не спасает от проклятой жары… А ведь хороший берет, да, он еще такие видел в фильмах. Тут же, совершенно некстати, вспомнились ему семейные походы в кино: прохлада кинозала, вкус сливочного мороженого (его родители не признавали попкорна и всегда покупали детям перед сеансом по огромной порции пломбира), блаженное ощущение, что он в мире со всем миром. Сейчас бы сбежать туда, в прошлое, чтобы не было пота, въевшегося в каждую складку кожи, чтобы не было этого беспощадного, разящего солнца…
Внезапно он и впрямь оказался там, в темном кинозале, а рядом старшая сестра перешептывалась о чем-то девичьем с матерью, и отец раздраженно качал головой, хотя никто этого не видел. Но тут в ухо угодил невесть откуда прилетевший камень, и кинозал исчез, и снова был нестерпимый тропический зной. Тонкая струйка крови побежала за пропитанный потом воротник, обжигая и так опаленную солнцем шею.
Полковник развернулся, обведя стволом полуавтоматического «кольта» толпу чернокожих. Что-то явно было не так: ему показалось, что пистолет сам тащит его за руку, черным оком дула высматривая бросившего камень.
– Кто?! – каркнул он и тут же увидел сам: какой-то старикашка, сморщенный, как печеный чернослив. Старый пердун не успел даже опустить руку, как загрохотали выстрелы.