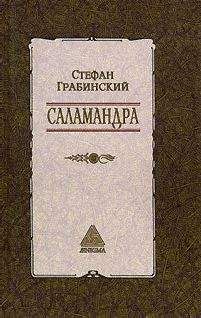Стефан Грабинский - Избранные произведения в 2 томах. Том 2. Тень Бафомета
Ксендз участия в сеансах не принимал, стараясь держаться от этого дела подальше. Будь его воля, он вообще бы эти эксперименты категорически запретил, но на них настаивала Хелена, а желание племянницы было для старика законом. Потому он следил за их опытами издалека, довольствуясь краткими отчетами Проня.
Вскоре доктор обнаружил у своей подопечной еще один дар — психометрический. Хелена не только прочитывала письмо, заключенное в конверте, и угадывала предмет, спрятанный в деревянной или металлической шкатулке, но и с легкостью проницала прошлое, рассказывая историю подвергаемых испытанию вещей, стоило их приложить во время сеанса к ее лбу или сердцу.
В достоверности сообщаемых ею сведений психолог убедился лично, выставив на проверку во время одного из сеансов старинную, прошлого века книгу, которую возил с собой в подручной библиотечке. Хелена не только перечислила имена всех ее прежних владельцев, но и рассказала попутно весьма интригующую историю из жизни умершей пани З., у которой доктор приобрел книгу. Родственники покойной, к которым Пронь обратился за справкой, в мельчайших подробностях подтвердили все, рассказанное панной Лончевской.
После этого случая диковинный музей весьма упрочил свою репутацию в глазах ученого: знаки, признаваемые Хеленой подлинными, становились серьезными свидетельствами, с которыми приходилось считаться.
В течение трех недель доктор Пронь подверг «психометрической ревизии» почти всю коллекцию ксендза и убедился, что мнение медиума о потусторонних печатях, высказанное несколько лет назад, не изменилось ни на йоту — знаки сомнительного происхождения либо фальшивые оставались таковыми и по сей день.
Особое внимание Пронь посвятил «наиценнейшему» экспонату музея, хранимому во втором зале. Он действительно был весьма и весьма оригинальным как по форме, так и по содержанию. К тому же имел непосредственное, можно сказать, родственное отношение к создателю музея и положил начало уникальной коллекции ксендза Лончевского.
Это было то самое странное изображение, копию которого доктор Пронь увидел на правой алтарной створке.
На узком и длинном, более метра, куске белого шелка виден был набросок человеческой фигуры, выполненный углем или сажей. Слегка размытый в контурах рисунок напоминал портрет какого-то высшего церковного иерарха. На такую мысль наводило длинное, ниспадающее до земли одеяние с пелериной на плечах и головной убор, похожий на митру. Особенно запоминающимся был профиль: острый и выразительный, как у посмертных масок сынов старого Рима, — орлиный нос и хищное око с ярым взглядом. В правой руке церковник держал что-то вроде посоха, левой, выкинутой вперед, словно пытался оттолкнуть ужаснувшее его видение.
От фигуры веяло чем-то зловещим, сатанинским даже, и вместе с тем чувствовалась в ней затаенная глубокая мука, вызывающая невольное сострадание.
Так выглядел первый музейный экспонат — ксендз окрестил его «епископом». О происхождении диковинного портрета Лончевский рассказал доктору в костеле после мессы, когда последние верующие покинули храм. Усадив гостя на одну из скамей в боковом нефе, старец поведал следующее:
— Случилось это сорок два года тому назад, в тысяча восемьсот семидесятом, в марте, в мясопустную среду. Отправлялось как раз сорокачасовое богослужение, которое я ввел у себя по римскому образцу. Подходила полночь, я остался один в опустевшем храме. Полным блеском сияло передо мной ярко освещенное Святое Причастие, мерцал в неверных бликах свечей разубранный в шелковые шарфы и ленты главный алтарь, позади меня, в самом центре храма, лучилась красноватым светом негасимая лампада. Тишину прерывал только шепот губ да потрескивание догорающих светильников… Опустившись на колени, припав лбом к алтарной ступени, я возносил жаркую молитву за души тех, что ушли…
А потом… то ли притомленный долгим бдением, то ли по особой какой благодати, но я погрузился в некое странное состояние, похожее на сон или грезу, трудно выразить, и потерял сознание. Как долго это длилось, не знаю точно, только очнулся я, когда в храм уже сочился сквозь витражи рассвет…
Я поднял голову и, глянув на алтарь, заметил, что одна из свечей, накренившись вправо, коптит, и весьма обильно. Испугавшись, как бы огонь не переполз на свисающий с той стороны покров, я подскочил к правой створке, чтобы свечу поправить.
И тут я углядел, что пламя свечи, отстоявшей от нижнего края шелка на несколько дюймов, точнее сказать, не пламя, а струйка копоти, из пламени изошедшая, вычертила на шелковой ткани странную эту фигуру.
Изображение произвело на меня впечатление мощное и таинственное. И до сего дня я уразуметь не могу, отчего событие не такое уж важное и даже случайное пронзило меня до глубины сердца. Должны же быть этому какие-то основания…
Месяц спустя я велел выполнить для себя копию в том же материале и повесил ее в костеле, оригинал же забрал к себе, с него и начался мой музей.
— Событие более чем удивительное, — прервал затянувшееся молчание доктор Пронь и задумчиво двинулся вслед за ксендзом к выходу…
С тех пор рассказанная Лончевским история не давала доктору покоя. Он постановил во что бы то ни стало испытать «епископа» с помощью своего медиума, но в лице Хелены встретил на сей раз сильнейшую оппозицию: она ни в какую не соглашалась на психометрическую проверку загадочного изображения.
— Не могу, — упорно отбивалась она от его настоятельных просьб, — я просто не могу согласиться, пан доктор. Очень прошу вас не уговаривать меня понапрасну. Что-то меня от этого портрета отталкивает, я вашего «епископа» боюсь. Мне ни за что не войти с ним в тесный контакт.
Пронь, видя неодолимое упорство девушки, внешне вроде бы уступил и несколько дней о «епископе» даже не упоминал.
Тем временем обнаружилось в этом деле еще одно обстоятельство, наводившее на размышления, проступил своего рода тайный след, которым Пронь надеялся добраться до истины.
Напал он на него случайно, во время осмотра «римских сувениров» хозяина, — ксендз Лончевский оказался страстным почитателем Рима: знал святой город насквозь и чувствовал себя в нем как дома. Не было закоулка, которого бы он не обследовал, не было памятника, которым бы не полюбовался собственными глазами.
— Удивительное дело, — признался он как-то гостю в приливе откровенности, — когда на двадцатом году жизни я впервые попал в Рим, меня не покидало навязчивое ощущение, что я здесь уже бывал. Город показался мне странно знакомым, я моментально, без помощи плана ориентировался в улицах, радуясь старинным палаццо как добрым знакомым. Особенно близкими, чуть ли не родными казались мне кварталы за Тибром, прилегающие к Ватикану: Борго, замок Ангела, Прати. Мощные адриановские стены, узкие и темные улочки, серые портики, таинственные переходы — corridori — над крышами домов были мне куда ближе, чем шумливые и прямые, точно по линейке отчеркнутые современные авеню с просторными площадями и замурованными в гранит берегами старого Тибра. Непостижимым для самого себя образом я угадывал перемены, с ходом столетий наступившие в расстановке зданий в старинной части города: мой чичероне был изумлен некоторыми подробностями, неизвестными даже ему, коренному римлянину; тем не менее, предпринятые мною позднее разыскания в истории вечного города подтвердили мою правоту. Ничего удивительного, что меня словно тянет в Рим какая-то неодолимая сила, и я чуть ли не каждый год навещаю любимый город.