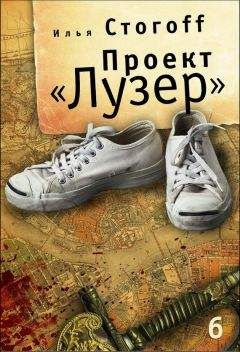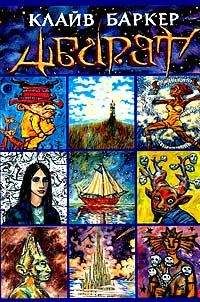Клайв Баркер - Книга демона, или Исчезновение мистера Б.
— К чему столько вопросов, Ботч? — молвил он.
— Мне нравится узнавать новое.
— Но вы являлись Гутенбергу во сне. Или смеете заявлять, что являлись. Как вы могли пройти сквозь разум человека, занятого великим творением, и не увидеть это творение?
Я был в ловушке: его преосвященство за спиной, гений впереди, а посередине — мой болтливый язык.
Именно язык завел меня в эту неразбериху, и я умолял его вывести меня оттуда.
— Полагаю, вы говорите о своем репродукографе, — сказал я и заметил, что эта нелепица из шести слогов, нечаянно вырвавшаяся из моих уст, вызвала потрясение.
— Так вот как нужно называть это? — сказал. Гутенберг, и лед, звучавший в его голосе мгновением раньше, растаял без следа. Он перешагнул порог мастерской и повернулся ко мне. — А я думал назвать его печатным прессом.
— Ну, можно и так, — ответил я, оглядываясь на архиепископа с видом вельможного негодования. — Не будете ли вы любезны убрать руку с моего плеча, ваша разукрашенность?
Из огромной комнаты за спиной Гутенберга раздались едва сдерживаемые смешки работников, и даже глаза сурового гения повеселели, когда он услышал, как я обращаюсь к архиепископу. Его преосвященство послушно убрал руку, но сначала больно стиснул пальцами мое плечо, давая знать, что не спустит с меня глаз. Гутенберг повернулся на нижней площадке лестницы, приглашая меня следовать за ним. Так я и сделал — спустился в мастерскую и наконец-то увидел машину, ставшую причиной баталий над и под домом Гутенберга.
Изобретение отдаленно напоминало виноградный пресс, изобретательно дополненный множеством новых деталей. Я смотрел, как один из работников, обслуживающих пресс, взял лист бумаги и аккуратно положил его на покрытую краской деревяшку.
— Что вы сейчас печатаете? — спросил я гения.
Он наугад выбрал страницу из дюжины других, развешанных на просушку над нашими головами.
— Я хотел начать с Библии…
— «В начале было Слово», — сказал я.
К счастью для меня, Гутенберг знал окончание стиха, потому что я помнил только лишь первые шесть слов из Евангелия от Иоанна Прочитав их, я швырнул книгу в груды мусора Девятого круга, где ее и нашел
— «И Слово было у Бога», — продолжил Гутенберг.
— Слово, — пробормотал я. Потом посмотрел на архиепископа и спросил: — Вы думаете, это было какое-то определенное слово?
Он молча фыркнул, как будто отвечать мне было ниже его достоинства.
— Я просто спросил, — пожал я плечами.
— Это мой старший мастер Дитер. Поздоровайся с мистером Б., Дитер.
Молодой лысый человек, работавший с прессом, в фартуке и с руками, щедро разукрашенными пятнами краски и отпечатками, поднял глаза и помахал мне рукой.
— Дитер убедил меня, что начать нужно с чего-то поскромнее. Поэтому я испытываю пресс, печатая школьный учебник грамматики…
— Это «Ars Grammatica»?[3] — спросил я, прочитав название на титульном листе, сохнувшем в другом конце комнаты. (Своим демоническим зрением я видел то, чего человеческим глазам ни за что не прочитать, а Гутенберг пришел в восторг, оттого что я угадал книгу.)
— Вы знаете ее?
— Я учился по ней, когда был помоложе. Копия, которая была у моего учителя, была очень ценной. И дорогой.
— Мой печатный пресс положит конец этой ужасной дороговизне книг. Он печатает много одинаковых копий с пластинки, на которой набраны буквы. Перевернутые, конечно.
— Перевернутые! Ха! — Это меня почему-то порадовало.
Гутенберг потянулся и снял с веревки еще один сохнущий лист.
— Я убедил Дитера, что мы можем напечатать что-нибудь повеселее, чем учебник грамматики. И мы выбрали стих из «Сивиллиных пророчеств».
Дитер слушал наш разговор. Он бросил мимолетный взгляд на Гутенберга и улыбнулся ему любящей братской улыбкой. Было видно, что работники обожают своего хозяина.
— Это прекрасно, — сказал я, посмотрев на поданную Гутенбергом страницу.
Строки были ровными и четкими. Первая буква не была украшена рисунками, подобно тем, что месяцами выписывали монахи на манускриптах. Но у печатной страницы имелись другие достоинства: промежутки между словами были абсолютно равными, а вид букв делал стих изумительно легкочитаемым.
— Бумага на ощупь чуть влажная, — заметил я.
Гутенберг выглядел довольным.
— Меня научили этому фокусу, — сказал он. — Слегка увлажнить бумагу перед тем, как на ней печатать. Но вы-то сами все знаете. Вы говорили мне об этом во сне.
— И я оказался прав?
— О да, сэр. Вы правы. Не знаю, что бы я делал без ваших подсказок.
— Я с удовольствием вам помог, — сказал, я и отдал лист со стихом обратно Гутенбергу.
Потом и пошел в глубь комнаты, где двое мужчин лихорадочно работали, собирая на деревянных досках строчки текста. Все составные части — буквы строчные и заглавные, промежутки между буквами, цифры и, конечно же, знаки препинания — были разложены на четырех столах, так, чтобы мастера могли работать, не мешая друг другу. Если Дитер и его товарищи у пресса отвлеклись от дела, чтобы посмотреть на нас и посмеяться, когда я поддразнил архиепископа, эти двое были полностью погружены в работу. Они сверяли набираемый текст с рукописной копией и даже не подняли глаз. Их занятие завораживало, потому что требовало сосредоточения. Я почти впал в транс, наблюдая за ними.
— Все работники дали обет молчания, — сказал Гутенберг, — поэтому никто, кроме нас, не знает возможностей этой машины.
— Это правильно, — ответил я.
* * *Кажется, все или почти все откровения позади; осталось рассказать лишь об одной более-менее значимой тайне. Учитывая это, такой мудрый человек, как вы, уставший от игрищ и детских страшилок, — да, я вовлекал вас в эти игры, mea culpa, mea maxima culpa! — может решить, что пора наконец избавиться от этой книги.
Я даю вам последний шанс, мой друг. Назовите меня сентиментальным, но у меня нет желания убивать вас, хотя мне придется это сделать, если вы доберетесь до последней страницы. Сейчас я ближе к вам, чем был тогда, когда рассказал о совпадении числа шагов и перевернутых вами страниц. Я слышу, как вы бормочете про себя, переворачивая страницу, чувствую ваш запах и вкус вашего пота. Вам тревожно. В глубине души вы хотите послушаться меня и сжечь книгу.
Я дам вам один совет, а вы задумайтесь. Та часть вашей личности, которая не желает покоряться и рискует жизнью ради того, чтобы проверить себя «на слабо», — это своенравное дитя, оно капризничает и требует внимания. Это можно понять. Внутри нас навсегда остаются части того, кем мы были в очень ранней молодости.