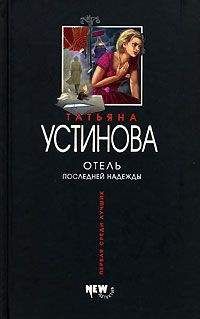Лиля Калаус - Фонд последней надежды
— Миирзаляй! Позвольте, как говорится, поздравить вас с наступающим, сами понимаете, Мери Кристмас! Хочу всем пожелать счастья и здоровья в будущем году! Христос, как говорится, воскресе! Аминь!
Очень довольный собой, Мойдодыр залихватски выпил водки и сел. Вылез с неприличным тостом Жорка Непомнящий, но его, к асиной радости, сразу же зашикали.
Ася сидела рядом с Олегом. И мало что соображала. Он положил ей на тарелку огурец и бутерброд. Она только глазела на него и улыбалась. Тогда он разрезал всё это на маленькие кусочки и постепенно скормил ей до крошки, заставляя запивать лимонадом.
Когда выпили за процветание Фонда и оконцовку мирового финансового кризиса, Алия№ 1 решительно перешла на песни из советских кинофильмов. Спели «Вот, кто-то с горочки спустился». Следом, с некоторыми купюрами — «Огней так много золотых на улицах Саратова». Выпили, кстати, за холостяков.
— Да-а… — загорюнился Подопригора. — Вот так бобылём и помру. Стакан коньяку никто не подаст…
— Ну что ты, Гамаюныч, переживаешь, — утешал его Жорка. — Мало ли! Зато свободен, как птичка, девочек, вон, кадришь, и никто тебе плешь дома не проедает…
Сказав это, сам Жорка тоже загрустил, хлопнул водки, занюхал румяным андорром.
Ася скользнула по нему невидящим взглядом, снова улыбнулась Коршунову, послушно съела протянутую маслинку.
— Во как дрессировать-то их надо, — прошептал Гамаюнычу Жорка, с тоской наливая себе водки. — Видал-миндал? И что она в нём нашла?
— Жорка! Друг! — вдохновенно воскликнул Тараска. — Не боись! Найдём и тебе дивчину! У Киев поидим та пошукаемо, а?
— Пошукаемо… — с отвращением повторил Жорка. — Пошёл ты в жопу со своей ридной мовой… Забыл, как на родину ездил?
Гамаюныч смешался и побурел.
— Тарас Гамаюныч, расскажи! — загалдели сотрудники.
— Чё рассказывать, — выдавил наконец Тараска. — Поехал весной в Киев на конфу по свободе СМИ. Зашёл в универ — там деканом кореш мой, вместе в Москве учились. Ну вот. Прихожу в приёмную. А там такая деваха сидит — секретарша — пальчики оближешь. Глаза — во! Коса — во! Сиськи… Эх… — вздохнул Гамаюныч. — Короче, расшаркался я, так, мол, и так, говорю, ваша красота меня повергает. И вообще, говорю, я тут к другу пришёл, позови его, говорю, девонька, я с ним перетру, да и закатимся с тобой в ресторацию самую наилучшую! А она в ответ смотрит на меня… Ну, как на гуано какое-то… И говорит: «Не розумию!». ОК. Я ей на ридной мове заспеваю всё, как положено. «Не розумию!» Тут меня такая злоба взяла. Я ей говорю по-английски: «Сука, позови начальника сей же час, а не то, щет, я тебя, фак, измордую, как бог черепаху, срань господня!» «Не розумию!» И смотрит серьёзно так, вроде как у меня две головы или ширинка расстёгнута. Короче, стукнул я по столу, она охрану вызвала. На счастье, кореш мой в кабинете сидел, он меня и отмазал. Вот чё это было, скажите?!
— Ну, Тараска, — сочувственно сказала Гулька, — может, ты ей просто не понравился. Бывает же…
— Да! Может! — не на шутку разошёлся Подопригора. — Так скажи мне! По-человечески! Эх… Я потом в автобусе подрался с одним мудаком из Львова, когда он стал задвигать про полицаев-ветеранов. А у меня бабка в Освенциме сгорела и оба деда на фронте полегли, причем, буркутский — на Брянщине. А эта падаль сидит и втирает: дескать, действия дивизии СС «Галичина» были разумной и необходимой мерой борьбы украинцев за незалежность… Ну, я ему и врезал.
— Молодец! — закричали все. — Ну ты даёшь, Гамаюныч! Надо за него выпить!
— Выпьем… за интр… ин-тер… нца…лизим… — проблеял Жорка и положил голову на скатерть.
— Лучше за дружбу народов, — поправила его Корнелия.
Олег слушал весь этот трёп вполуха. Рядом сидела Ася и ела у него с рук, как райская птичка. Таинственный рождественский свет струился от ёлки, и от этого, и от смеха и теплоты собравшихся, от мягкого гитарного рокота, голова кружилась и плыла.
— А моего прадеда на фронт пожилым уже взяли, — не отрывая глаз от горящей свечи, сказала Майра. — Его в кашевары определили. Мне дедушка про него рассказывал, я сама, его, конечно же, не помню. Он всю войну честно прошёл, но никаких подвигов не совершал. У него лошадь была. Старая, наверное, лошадка, вот он прицеплял к ней бочку с кашей и ездил между окопами. А линия фронта менялась всё время. То наши наступают, то немцы. А тут мой прадед, старый буркут, со своей клячей и бочкой. То к нашим попадёт, то к немцам. И всех своей кашей кормит. — Майра подняла глаза на притихшую аудиторию, привычно тряхнула косичками. — И все вставали в очередь — и наши, и немцы — кушали, миски возвращали. Благодарили потом, наверно… И никто его не тронул.
Следом Гулька принялась темпераментно рассказывать про своего деда, который служил всю войну интендантом, вообще, был по торговой части. Но в Сталинградской битве поучаствовал.
— …Прикиньте, проломил башку фрицу его же прикладом! Даже заметка была в военной газете! До сих пор вырезку дома храним! Так и написано: «проломил башку фашистскому гаду»! И орден ему дали! До Берлина дед дошёл! А его семью в это время… Сюда… Из Крыма… — Гулька громко всхлипнула. — В вагонах для скота… Без остановок… Мёртвых выбрасывали в окна… А он… После войны приехал… К жене, детям… Весь в наградах… А тут… Отмечаться надо было… В к-комендатуре… Как при немцах… — Гулька пьяно зарыдала на груди у Жана Снизим Риски.
— Кончай, Карапетова, сырость разводить, — буркнула Софка Брудник. — У каждого в прошлом говна полно. Если покопаться. Это я тебе как жидовка заявляю, поняла? Знаешь, как мой дед про себя говорил? Я, говорит, всю жизнь инвалид пятой группы. А я маленькая была, всё гадала — какая ж это группа пятая?.. Потом уже мать про пятую графу разъяснила.
— Вы, Софочка, разумеется, совершенно правы, — вступил Карим Каримыч. — Память — штука жестокая. Не всегда стоит её тревожить. Вы же знаете, как она меняется. С годами. Как будто прошлое не ушло, а продолжает жить в нас. Искажаются лица, всплывают несуществующие подробности…
Ася вздрогнула. Сжала сильно его руку. Олег наклонился, выловил в темноте её горячее ухо, горячо зашептал: «Асенька… Что ты…». Не владея собой, провёл языком по тонкому хрящику, легонько сжал зубами нежную мочку с упругим канальцем для серьги.
— Я старый человек, и знаю, точно знаю, что не всё происходящее можно объяснить, так сказать, с научной точки зрения. Бывают та-акие истории… — Карим Каримыч вкусно почмокал губами, именно истории, а не байки или пересказы дешёвых романов… Редко кто отважится поведать, как было на самом деле, знаете ли. Стесняются, боятся даже. Так и носят в себе, как в сундуке. Но проходит время, и хранитель такой удивительной истории, даже и не с ним произошедшей, а только услышанной — по секрету! без права передачи! — похороненной глубоко в сердце, вошедшей в подкорку, изменённой уже незаметно его собственными воспоминаниями и житейским опытом, так вот, дорогие мои, этот самый хранитель начинает понимать одну вещь… А именно: он умрёт, и это случится в довольно-таки обозримом будущем. А история трепещет под сердцем, как не вытравленный вовремя, прошу прощения у дам, младенец. И если не передать её в будущее — она умрёт вместе с ним. А надо ли передавать? И будет ли его история спустя столько времени равноценна первоначальной? Кто знает?