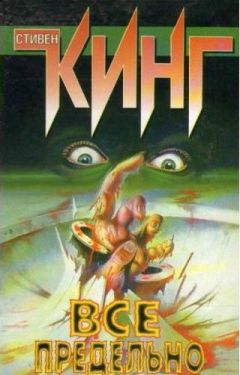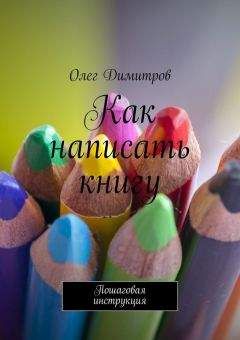Ирек Грин - Дневник дьявола
— Много раз. — Тогда я еще не знал, как часто.
— А видел ли ты людей, погибавших во время молитвы? Или произносивших перед смертью имя своего бога?
— Вполне возможно.
— И что?
— О чем ты?
— Ну, как они умирали?
— Так же, как и все остальные. По-моему, большинство призывало Его не для того, чтобы умереть как-то по-особенному, то есть проложить себе дорогу в рай, а для того, чтобы просто остаться в живых.
— Значит, они не были более спокойными, чем остальные?
— Я не заметил. Ну, может, один раз. Но, мне кажется, что и тогда там не ощущалось божественного присутствия, потому что, если у кого-то есть шанс умереть за свою веру, за того Господа, который сотворил его, то он не должен оскорблять Бога просьбой сохранить ему жизнь, не так ли? Если человек мечтал воссоединиться с Божественным, зачем он просит Его о милосердии и жизни? Ведь у него как раз появился шанс быть спасенным. Создатель не любит таких, и его нет с ними, а значит, их мольбы напрасны. Творец словно говорит: «Если вы не хотите прийти ко мне, то не удивляйтесь, что там, куда вы попадете, меня не будет».
— А кто будет? Дьявол? Наверное, все-таки не он, по крайней мере, если мы говорим о жертвах. Почему несчастные евреи, — я сказал это для примера, потому что в разговорах о покаянии, которое мы должны были понести, после того как наломали дров, чаще всего упоминались евреи, но помню, как разозлился на меня дядя, — должны были бы оказаться в аду?
— Ты судишь слишком по-христиански, тебе следует больше времени проводить с отцом, а не с матерью. А если уж мы говорим о Нечистом, то его там точно не будет, однако не потому, почему ты думаешь. Извини меня за прямолинейность, но у Сатаны, который является господином этого мира, нет ни малейшего интереса в том, чтобы убивать своих подданных. Ведь на Земле каждый из них, даже будучи добрым человеком, может принести очень много вреда, причинить огромные страдания… Зачем же рисковать, что на Суде, хоть я и не верю в этот Суд, кто-то отпустит ему грехи и позволит войти в некое Царствие, пускай Небесное, тем самым лишив демонов удовольствия забавляться с далекой от совершенства человеческой оболочкой?
Тут дядюшка смолк и попросил меня оставить его, так как выглядел очень утомленным, а в этом случае он мог быть весьма скор на расправу. Вероятно, перед тем как взлететь на воздух вместе с отцом и тетушкой Аделаидой, дядя Фридрих решил, несмотря на тяжелую болезнь и то, что с большим трудом мог передвигаться только на костылях, поприветствовать своих родственников в гостиной. И вот он, грузный, в своем привычном широком халате, входит в гостиную, где пьют чай его родственники, утомленные путешествием. Он держится с большим достоинством, как вдруг — вспышка, грохот — и мгновенная смерть. А вместе с ним погибают его брат с сестрой, для которых, наверное, такой финал был менее ожидаем, чем гром с ясного боливийского неба. Я очень жалел, что Фишман никогда не был знаком с дядей. Они могли бы поболтать о том, насколько счастливы были души евреев, когда айнзатцкоманда дяди Фридриха поджигала сараи, доверху набитые врагами человечества.
Ах да! Мне вспомнилось что-то на тему поджога сараев с людьми. Я расскажу вам историю, связанную с одним снимком Фишмана. Я уже упоминал, что он безумно боялся огня?
Кто-то (я!) рассказал мне о душах восточных славян. Во время обряда Дзядов они спускаются из своей Нави и живут в овинах, приняв облик маленьких человечков. Если ты заботишься о них, то они не причинят тебе вреда. Я вспомнил о них тогда, когда языки пламени рвались к небу (вы согласитесь, что тут он — совершенно неумело — пытается копировать мой стиль?), а я направлялся к выходу . Как же! Ты оцепенел, словно оглушенный кабан, когда я выводил тебя оттуда. Собственно, у меня мелькнула абсурдная мысль, что у каждого мертвеца, лежавшего в том помещении, был такой чертенок, который замерз и разжег огонь, чтобы согреться. Да, довольно абсурдно, если учесть, что действие происходило жарким вечером на Мадагаскаре, где, очевидно, дело обошлось без участия славян, хотя в странах, где жара означает засуху, она ассоциируется с темными силами. Интересно — дождь и месяц у них хорошие, а солнце злое. Но какая может быть мифология у края, жители которого за несколько долларов продают собственных детей в рабство? Кстати, однажды у Фишмана была возможность сфотографировать транспортировку таких негритят, совсем маленьких, истощенных, брошенных в трюм какого-то корабля, но тогда он не отважился на это. Однако вернемся на Мадагаскар. Я сказал, что сфотографирую ритуальное самоубийство членов секты Возвращения зеркал спасения, только если они лягут в круг, голова к голове. Голос за стенкой исповедальни согласился. И еще — что я хочу видеть, как они умирают.
— У вас богатое воображение. — Исповедник постучал по дереву, давая понять, что встреча окончена.
Когда я сейчас размышляю над случившимся, единственной обоснованной причиной, по которой кто-то хотел предать огласке эти события, то есть заранее обеспечить им — скажем так — визуализацию, является конкуренция. Потому что, когда мы прибыли на место, к красивому, белоснежному дому округлой формы, расположенному в центре большого сада, у меня не осталось сомнений, что тех людей убили. Нигде ни души. Они уже лежат. Так, как я хотел, голова к голове. Тела восьми человек лежат, образуя круг и тем самым усиливая его магическое воздействие. Несколько еще агонизируют. На всех — длинные белые одежды. Прекрасно смотрятся на фоне дубового пола. На губах застыли молитвы Тому, Кто призвал их и Кому они не посмели отказать. Это правда. Думаю, что, прежде чем их уложили и дали сильнодействующий яд, некто, потому что это не мог быть НЕКТО, подал самоубийцам наркотик и тем самым лишил их воли. Одних травы обездвижили, других — напугали, но никто не смог воспротивиться. Адриан берет фотоаппарат, меняет объектив, через стеклянный купол в помещение льется поток теплого света. На белоснежных стенах тонкими линиями проступают тени металлических конструкций, поддерживающих стеклянную крышу, они напоминают Эйфелеву башню с картины пьяного кубиста. Вообще все очень мило, по-домашнему. Для того, чтобы описать увиденное нами, больше всего подходит немецкое слово «heimlich» [46]. Адриан уже нагибается, уже нетерпеливо переминается с ноги на ногу, ожидая, что их души вот-вот покинут тела, как вдруг…
Один садится! Словно на пружине. Эдакий Ванька-встанька. Раз — и сел! Признаюсь, что, несмотря на всю торжественность момента, я тихонько прыснул от смеха. Фишман скривился. Не такую фотографию он хотел сделать. А тот, как назло, все сидит. И к тому же что-то бормочет. Остальные умерли или, по крайней мере, выглядят как покойники. Это длится целую вечность, лицо сидящего скрыто от нас, мы видим только его спину. Наконец! Он начинает падать, его голова безвольно клонится вниз. Теперь нам видно, что это мужчина с прекрасным римским профилем. Внезапно он, словно почтенный сенатор в окружении других государственных мужей, застывших на ложах головами друг к другу и равнодушных ко всему, начинает извергать содержимое своего желудка на лежащую рядом женщину. Фи! Отвратительно, нефотогенично! А что на это Фишман? Смотрю на него. Он опустил фотоаппарат и наблюдает за происходящим. Послушаем, о чем он думал в тот момент: Какой странный запах! Неужели он исторг из себя запах горящего дерева? Откуда тому взяться в этом доме, черт возьми? Из-за дверей напротив донесся треск, и в зал ворвались языки пламени, разожженного кем-то в соседней комнате. Еще немного — и они бы сорвали двери с петель. Позже власти установят, что это было небольшое взрывное устройство, которое сдетонировало в результате перегрева. Представьте себе картину: огонь неумолимо ползет по стенам, жар нестерпим, римский сенатор выплевывает желчь на белоснежное одеяние женщины, остальные неподвижны. От испуга Фишман застыл как истукан и не фотографирует. Снимок мог бы сделать ваш покорный слуга, но меня позабавил этот цирк, а увидев выражение лица своего патрона, я расчувствовался. Оцепеневший Фишман. Спасаться — но как? Бежать? Куда? В какую сторону? (Честно говоря, мне показалось вполне уместным привести здесь другой фрагмент, касающийся обычной бомбардировки.) Я подошел к нему, он смотрел сквозь меня, парализованный страхом.