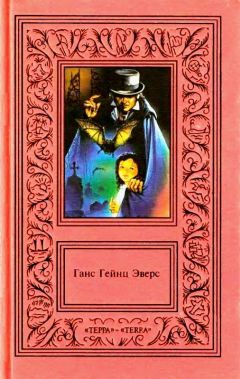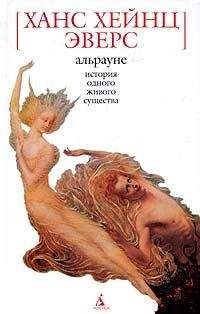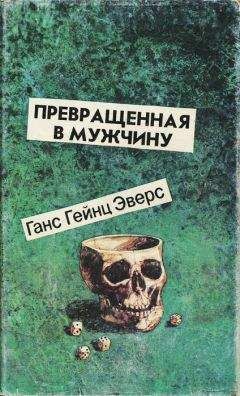Ганс Эверс - Сочинения в двух томах. Том первый
Ваше заведение лежит в великолепном обширном парке. Я сегодня утром странствовал по нему. Он так велик, так прекрасен. Я знаю, доктор, что мои слова убедили вас. О, мне удалось, без сомнения, убедить вас… Итак, когда наступит час, который уже так близко, то не пытайтесь помешать тому, что должно исполниться. Там, на большом лугу, где шумят каскады, — там буду я стоять. Я надеюсь, что вы, доктор, распорядитесь, чтобы за мной был хороший уход. Боннский садовник знает, как обращаться с померанцевыми деревьями, он даст вам указания. Я отнюдь не желаю захиреть… Я хочу расти и цвести, чтобы она радовалась и восхищалась моей красотою.
Она будет писать, доктор. Вы узнаете ее адрес.
Еще одно: каждым летом, когда моя верхушка будет сверкать тысячью золотых плодов, будьте добры, доктор, срывайте самые прекрасные из них и кладите в корзиночку. И посылайте ей.
И пусть будет вложена туда записочка с милыми словами, которые я однажды слышал на улице Гренады:
Я сорвал в моем саду
Померанцев спелых, ярких,
Сок их алый — кровь моя.
И тебе, моя голубка,
Померанцев я принес.
Так возьми же их, голубка,
Только их ножом не режь:
Ты мое разрежешь сердце
В середине померанца.
О. Поркеролль. Июнь 1905
МЕРТВЫЙ ЕВРЕЙ
Когда пробило двенадцать часов, актер продекламировал:
— И вот настал тот день, в который мы…
Но тот, кому он сказал это, прервал его:
— Оставьте, пожалуйста. Этот день для меня в высшей степени неприятен.
— Ах, вы начинаете впадать в сентиментальность. Плохо дело! — рассмеялся актер.
Но его собеседник возразил:
— Вовсе нет. Но у меня с этим днем связаны воспоминания…
— …Столь страшные, что цепенеет кровь?.. Как и все ваши воспоминания! Так облегчите же себя. Сложите с себя на нас тяжкий груз ваших воспоминаний.
Мне очень не хотелось бы. Все это до такой степени грубо и дико…
— Ах, какие нежности! С какого это времени вы стали заботиться о наших нервах? В то время, когда мы все ходим по шелковистым коврам, ваши ноги тонут в запекшейся крови. Вы — помесь жестокости и безобидности.
— Я не жесток.
— Это дело вкуса.
— В таком случае я предпочту молчать.
Актер протянул ему через стол свой портсигар.
— Рассказывайте, рассказывайте. Иной размывает очень невредно напомнить, что кровь и доныне еще струится в этом прекраснейшем из миров. А кроме того, совершенно неверно, что вы не хотите рассказывать. Вы хотите рассказывать, и мы будем слушать. Итак, мы слушаем!
Блондин открыл портсигар.
— Английская дрянь! — проворчал он. — Все дрянь, что идет из этой проклятой страны.? Он закурил свою папиросу.
И затем начал:
— Это было уже давно. Я был тогда еще совсем зеленым фуксом, семнадцати лет от роду. Я был так же невинен, как кенгуренок в сумке у его матери, но изображал циничного прожигателя жизни. Должно быть, это выходило забав- но… Однажды ночью в дверь ко мне сильно постучали.
— Вставай! — закричал кто-то. — Сию же минуту вставай!
Я очнулся от сна. Кругом была совершенная тьма.
— Да просыпайся же! Долго ли ты еще будешь заставлять меня ждать?
Я узнал голос моего товарища по корпорации.
— Войди! — ответил я. — Дверь не заперта.
Дверь с грохотом отворилась. Длинный медик ворвался в комнату и зажег свечку.
— Долой из постели! — крикнул он.
Я бросил отчаянный взгляд на часы.
— Но позволь. Еще нет и четырех часов. Я и двух часов не спал.
— А я и совсем не спал! — рассмеялся он. — Я пришел сюда прямо из пив- ной. Долой из постели, я тебе говорю, и живо одевайся, фуксик.
— Да что такое случилось? Честное слово, я не вижу в этом никакого удовольствия.
— Да никакого удовольствия и нет. Одевайся, я расскажу потом.
Пока я с усилием смывал с своих глаз сон и, стуча зубами, натягивал штаны, он уселся, сопя, в кресло и закурил свою ужасную бразильскую сигару. Я закашлялся и плюнул.
— Ты не переносишь дыма, фуксик? — прохрипел он. — Ничего, привыкнешь. Итак, вникай: сегодня утром у нас дуэль городом, в Коттеновском лесу. Я — секундант. Госслер тоже хотел идти со мной. Мы с ним, чтобы не проспать и быть на; месте вовремя, всю ночь проваландались в пивной, и он в конце концов раскис. Вот и все. Не мешкай!
Я прервал приятеля:
— Все это так, но я-то тут при чем?
— Ты? Господи Боже, какая же ты телятина! Я не имею никакого желания тащиться туда целые часы наедине с самим собой. И поэтому беру тебя с со- бой. Ну, живо!
Это была отвратительная ночь: дождь, ветер, грязь. Мы побежали по пустынным переулкам к нашей корпоративной квартире, где нас ожидала карета. Остальные уже уехали вперед.
— Ну, конечно! — бранился мой товарищ. — Вот мы и остались ни с чем, как свиньи. Служитель увез с собой корзину с провизией. Беги наверх, фуксик, посмотри, не найдется ли в буфетной бутылочки коньяку!
— Я звоню, жду, проклинаю, дрогну от холода. Но вот, наконец, добываю коньяк. Мы влезаем в карету, и кучер хлещет лошадей.
— Сегодня третье ноября, — проговорил я, — день моего рождения. Нечего сказать, славно он начинается.
— Пей! — провозгласил мой коллега.
— И к тому же у меня неприятность. Да еще какая!
— Пей же, бегемот! — крикнул он и пустил мне в лицо тошнотворное облако дыма, так что я едва не получил морскую болезнь. — Погоди, младенец, — ухмыльнулся он, — я прогоню твои неприятности.
И он пустился в рассказы. Медицинские истории с секционного стола. Он был мастер на это! Он вообще не стеснялся с такими вещами: ел завтрак прямо в мертвецкой, не вымыв руки, в промежутке между двумя препарированиями. От- резанные руки и ноги, выпотрошенные мозги, больные печени и почки — все это было ему одно удовольствие. Чем гнилее, тем лучше…
Разумеется, я пил. Один глоток за другим из нашей бутылки. Он рассказал мне десятка два историй, и та из них, в которой фигурировала разложившаяся селезенка, была еще сравнительно наиболее аппетитной. Ничего не поде- лаешь: этому учат в корпорации — быть господином над своими нервами…
Два часа езды. И вот карета остановилась. Мы выползаем из кареты и шлепаем в сторону от дороги, в лес. Бредем в тусклом утреннем тумане под голыми, безлистными деревьями.
— Кто, собственно, стреляется сегодня? — спросил я.
— Заткни глотку. Еще успеешь узнать! — проворчал товарищ. Он внезапно сделался молчаливым. Я слышал, как он громко икал, и его хмель проходил. Мы вышли на лужайку. Там стояло человек десять.