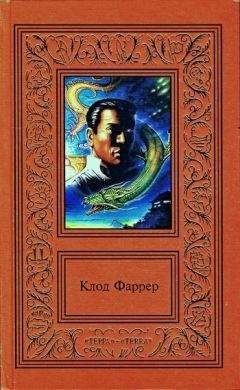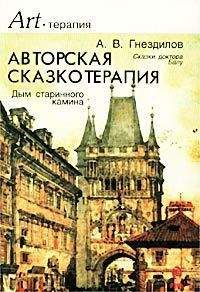Клод Фаррер - Дом Людей Живых
И я не имею права молчать. Надо писать дальше, надо, чтобы я кончил, — ради покоя, мира и безопасности всех мужчин и всех женщин, которые были моими братьями и сестрами…
О вы, читающие это завещание, мое завещание, — ради вашего бога, не сомневайтесь… Поймите! Поверьте!..
Да, мне казалось, что я умираю.
Ощущение бегающих мурашек, единственное из моих ощущений, в котором я с грехом пополам отдавал себе отчет, испытывалось теперь во всем теле, от корней волос и до пят. Но оно не походило более на начинающиеся судороги. Оно было теперь и более правильным, и более своеобразным. И я опять вспомнил Мадлену и наши утренние прогулки верхом, и наши остановки на песчаных прогалинах в лесу, и игру, которую она любила: погружать голые руки в песок, сравнивая два ощущения — от теплого тонкого песка и от теплой, тонкой и гладкой кожи. Мельчайшие песчинки скользили между пальцами с непрерывным шумом, и шум этот был похож на тот, который я слышал теперь под моей кожей, во всем моем теле: шум невидимого песка, наполнявшего мои вены и нервы, скользившего ровным потоком от сердца и внутренностей к рукам и ногам. В кистях и лодыжках этот странный поток ускорял свое течение, также и в пальцах… И далее… далее… Они были влажны и холодны, мои пальцы, как сосуды из пористой земли, из которых вода вытекает капля за каплей и которые охлаждаются при испарении…
И все время на мой затылок и спину между плечами сыпались градом бешеные удары, беспрерывные удары этого ужасного, всемогущего взгляда…
Я слабел все более. Минуту назад я напрасно пытался поднять глаза к часам на стене. Теперь даже веки мои были парализованы. И, не в силах более ни прикрыть, повернуть моих зрачков, я видел только, прямо перед собой, просвечивающуюся чечевицу, волокна которой таинственно блистали, дормез, в котором я только что видел мое изображение, — и часть стены, расписанной фресками, — и все это в очертаниях смутных, как бы струящихся…
И с каждой минутой я чувствовал, мне казалось, жизнь вытекает в молчании из этого опустошенного тела…
Вдруг произошло что-то необычайное. И я был поражен до такой степени, что смог, непонятно какой вспышкой энергии, открыть шире мои глаза, мигая ресницами.
В дормезе, где только что обрисовывалось мое изображение, я видел… видел ясно, отчетливо, без всякого сомнения, с непреложной и ужасающей очевидностью, другой образ, тоже светящийся, но иным светом… колеблющуюся и фосфоресцирующую тень… Тень, которая рождалась из пустоты…
XXXI
…Которая рождалась из пустоты…
Сначала она почти не существовала. Поистине, менее, чем тень… она была почти прозрачна, как кристалл: я продолжал видеть все детали дормеза, подпорку для головы, подлокотники, спинку… И она была совершенно бесформенна и бесцветна… Просто молочно-белый свет, неверный и изменчивый, подобный флюоресцирующим волнам Гесслеровых трубок…
Однако, она существовала. Она существовала гораздо реальнее, чем мое изображение, преломленное чечевицей перед тем: существовала существованием материальным, весовым… Я его угадывал, я его чувствовал, я знал. Она жила, быть может…
Она жила, да. Ибо в ткани, в субстанции светящейся тени, я начинал видеть, — я видел, — я видел ясно! — настоящую сеть вен и нервов, более светящуюся, чем само вещество тени… И я видел, как во всех венах и нервах бежала, равномерно пульсируя, фосфоресцирующая жидкость, которая изливалась из центра… которая изливалась из сердца…
Я видел, но что значит видеть? Я угадывал, я чувствовал, я знал — знанием верным, непреложным. Я знал, что эта тень жила, как знал, что живу я сам. И я чувствовал, как бьется ее сердце, как течет эта жидкость в этих фосфоресцирующих артериях — подобно тому, как знал, что бьется мое собственное сердце, и течет в моих артериях моя собственная кровь. И я постигал, что Существо это рождалось не из пустоты, а из меня, — из меня самого, — и что поистине оно было я сам…
И из глубины моей слабости и моей агонии, из глубины смертельного оцепенения, поглотивших мое сознание и мой разум, возникла эта единственная уверенность, и ясное, ясное понимание всего, что мне было сказано в словах, еще недавно темных и непонятных…
Да, это был я сам, эта Тень, сидящая передо мной, эта Тень, светящаяся и уже не такая прозрачная…
Я слабел все более. И я перестал видеть, потом слышать. Черная, непроницаемая завеса окутала меня. Казалось, я умер…
Позже я пришел в себя. Много позже, вероятно. Впрочем, я не знаю, но когда я пришел в себя, вся моя жизнь, предшествовавшая этому обмороку, представилась мне отошедшей на расстояние вечности, отошедшей за пределы всех возрастов…
Холодные руки сжимали мои виски. На мой лоб падали капли с мокрого носового платка. Граф Франсуа стоял передо мной, стараясь привести меня в чувство.
Я испустил вздох и, открыв глаза, разжал пальцы, впившиеся в подлокотники дормеза… Граф снял руки с моих висков, пощупал мой лоб и отошел.
Тогда я увидел…
Я увидел сидящего на другом дормезе человека. Человека, как я. Одинакового. Совершенно одинакового.
Меня самого. Я смотрел и не различал более, он или я был мною. Я не знал также, были ли мы два человека, или один в двух лицах. С трудом я поднял руку и довел движение до конца, потому что рука эта весила теперь не больше, чем рука куклы, — я ее поднял, чтобы увидеть, заставит ли мой жест другого человека — другого меня — поднять руку одинаковым жестом. Но нет! Он не шевелился. Итак, нас было двое. Двое разных людей. Два существа…
Два существа. И тем не менее, несомненно, две половины одного целого. Одного целого, да. И вся моя разреженная плоть стремилась к этой другой плоти, экстерриоризированной, исторгнутой из меня.
Другой человек. Человек, не галлюцинация, но фантом. Ни савана, ни струящихся очертаний вместо платья. Одежда. Такая же одежда, как моя. Я посмотрел на свою одежду, еще сейчас бывшую новой; теперь она сделалась старой, изношенной, изношенной до нитки.
Ветхой, как я сам.
Увы! Зачем?.. Зачем?.. Я знаю хорошо, о, вы, читающие, — я знаю, что вы не поверите…
Подумайте, однако, о том, что я не безумен. Разве сумасшедший говорил бы так, анализировал, рассуждал с такой правильностью? Нет! И вспомните, что я умираю. Две причины, по которым я не лгу, две причины, по которым не может быть сомнений в моей правдивости…
И все-таки, увы! Зачем? Я знаю, я хорошо знаю…
XXXII
Человек поднялся с дормеза и подошел к двери.
Я видел, как он шел моим шагом. Когда он поднимался, я почувствовал напряжение в мускулах колен и крестца, как будто это я сам делал усилие, чтобы подняться. И каждый из его шагов вызывал короткие сокращения в моих бедрах, икрах и лодыжках.