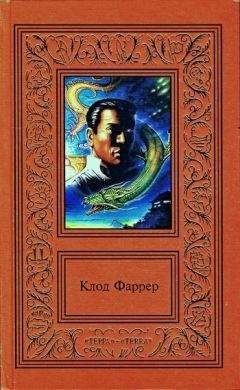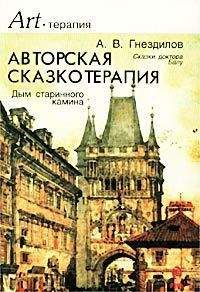Клод Фаррер - Дом Людей Живых
Между тем, тонкий голос маркиза спросил:
— Отчетливо ли изображение?
И низкий голос виконта ему ответил:
— Очень отчетливо, сударь.
Моя голова лежала в подпорке, которая наполовину обхватила ее, поддерживая в таком положении, что я мог потерять сознание, не согнув шеи. Поле моего зрения уменьшилось. Я видел только графа Франсуа, все еще занятого своими лампами, пламя которых он спустил до того, что они казались двумя ночниками.
Маркиз задал еще вопрос, обращенный на этот раз ко мне:
— Сударь, удобно ли вы сидите, без стеснения и достаточно мягко? Предупреждаю вас: это важно.
Я попробовал эластичность пружин и коротко сказал:
— Мне хорошо.
Отвечая, я коснулся обивки дормеза. То не был ни шелк, ни бархат, но род шелковой парчи, очень плотной, которая должна была представлять собой изолятор. Я заметил далее, что нижняя часть ножек была из толстого стекла.
Когда я снова поднял глаза, я увидел маркиза Гаспара, стоявшего передо мной.
— Сударь, — сказал он мне с какой-то странной мягкостью в голосе, — день наступит через несколько минут. И мы не можем медлить более. Не имеете вы никаких возражений против того, чтобы операция началась?
Последнее волнение сжало мне горло. Резким движением головы я дал, однако, понять, что не возражаю.
— Очень хорошо, — сказал маркиз, — я не могу выразить, сударь, насколько я вам обязан.
Он смотрел на меня с каким-то странным волнением.
— Сударь, — сказал он после паузы, — я не хотел бы, чтобы когда-либо в вас могла зародиться мысль, что сегодня вы имели дело с существами бесчеловечными.
Я широко открыл глаза. Он продолжал:
— Операция, которую я произведу — в первый раз — над вами, опасна: откровенно предупреждаю вас об этом. Не от меня зависит избежать этого. Тем не менее, вы, сударь, не будете испытывать ни малейшего страдания. Чтобы увеличить число благоприятных шансов, я вас не усыплю предварительно, хотя мне это и будет стоить лишней усталости и даже физической боли. Но если ваша мускульная и нервная сила останется в состоянии бодрствования, вы лучше перенесете ту потерю субстанции, которую вам предстоит перенести.
Он склонил голову набок и, облокотившись щекой на три своих длинных пальца, сказал тихим голосом:
— Я думаю о том…
Казалось, он соображал про себя.
— Я думаю вот о чем, сударь; вы, очевидно, имеете при себе какие-нибудь бумаги на ваше имя? Я хочу сказать: на ваше прежнее имя… Или, быть может, даже бумажник? Не откажите в любезности вручить мне все, что могло бы служить препятствием.
Молча я отстегнул две пуговицы своего вестона и стал шарить во внутреннем кармане. Я вынул оттуда маленький сафьяновый бумажник, заключавший в себе мое удостоверение личности, несколько карточек, два-три конверта, потом смятую в кармане бумагу — отношение полков-ника-директора артиллерии. Все это я отдал ему.
— Благодарю вас, сударь, — сказал маркиз Гаспар.
Его голос зазвучал торжественно.
— Теперь, сударь, все в порядке, и так как я вас не усыпляю, мне остается только попросить вас: соблаговолите, если можно так выразиться, изобразить смерть, ослабив совершенно все пружины вашего тела и ваших членов, также как вашей воли и даже рассудка. Держите себя так, как если бы вы спали. Вы увидите, что я вас прошу об этом в наших общих интересах.
Я сомкнул веки.
Он серьезно поклонился мне.
— Теперь все, — провозгласил он. — Прощайте, сударь.
XXX
Он исчез. Но, спустя минуту, я почувствовал позади себя его присутствие. И я знал с достоверностью, что он стоит во весь рост, и что он на меня смотрит. Его взгляд ударил в мой затылок и мои плечи, и я снова чувствовал давление тока, подобное тому, какое уже испытывал дважды, под взглядами виконта Антуана и графа Франсуа, когда первый нашел меня в горах и когда второй встретил меня в Доме Людей Живых…
…Подобное, но неизмеримо более могучее и тяжелое. Это были настоящие удары, сыпавшиеся на меня со страшною силой, которой я был в одно время и оглушен, и раздавлен. Под влиянием этих ударов, моя голова начала кружиться. Я видел чечевицу с блестками золота, и дормез, который был против меня, и сундук, и часы, и фрески на стенах, несущиеся в безумном хороводе, центром которого я был. Несмотря на подпорку, поддерживавшую меня, жестокое головокружение колебало землю вокруг меня, и руки мои судорожно цеплялись за подлокотники, ибо мое кресло, попеременно то падая в бездонные пропасти, то взлетая как мяч на незримые высоты, по временам наклонялось до того, что вот-вот должно было перевернуться. И я видел головокружительные бездны подо мной и не мог понять, почему я туда не падаю.
Это было ужасно, но непродолжительно. Вскоре состояние онемения, все возраставшее, умерило мое головокружение, потом прекратило его совсем. И я испытывал только ужасающую слабость. Моя голова, как будто опустошенная от мозговой субстанции сокрушительными ударами, действию которых я подвергался, бессильно лежала во впадине своей подушки, и глаза мои едва могли двигаться в орбитах, когда я хотел направить их на часы, чтобы узнать время. Это мне не удалось, настолько мои зрачки были оцепенелыми и мутными.
Тогда мурашки забегали в моих пальцах, откуда перешли выше, в руки и ноги. Это было похоже на начало судорог. Но судорог не последовало. Мне было очень холодно, и я перестал уже разбираться как следует в своих ощущениях, с каждой минутой все более смутных. Мне только казалось, что тело мое истощалось мало-помалу, наполнялось какой-то неведомой жидкостью, более легкой, чем кровь, в которой плавали все мои органы, свободные от мускульных связей.
И мне казалось, что я умираю…
Лучше было не писать дальше.
Прошло много времени, как я положил мой карандаш. Тетрадь с черной каймой лежит на каменной плите. Я еще колеблюсь, осматриваясь кругом…
Полуденное солнце золотит вершины черных кипарисов. Зимний ветер едва колышет ветви. В синем небе я не вижу ни одного облачка. И несмотря на жестокий холод, который леденит и пронизывает до самого мозга мои старые кости, я почти испытываю наслаждение, созерцая блеск этого прекрасного дня.
Лучше было не писать дальше.
Зачем? Я знаю хорошо, что мне не поверят. Я сам колеблюсь перед этими сказочными, невозможными воспоминаниями. Если б я не был здесь, если б я не читал букв, высеченных на этой плите, к которой я прислонился, и если б моими немеющими пальцами я не касался моей седой бороды, — я сам не поверил бы. Я подумал бы, что я в бреду, или сошел с ума. Но очевидность налицо.
И я не имею права молчать. Надо писать дальше, надо, чтобы я кончил, — ради покоя, мира и безопасности всех мужчин и всех женщин, которые были моими братьями и сестрами…