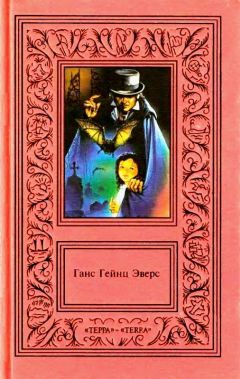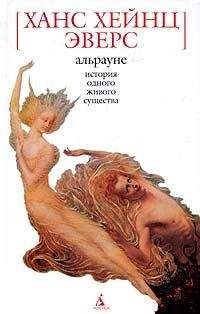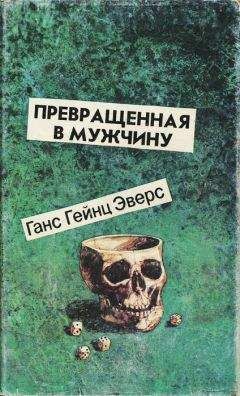Ганс Эверс - Сочинения в двух томах. Том первый
— Что поделываю? — повторил вопрос пастор. — По-прежнему злюсь: на старом нашем Рейне все больше и больше пахнет Пруссией. Поэтому сочиняешь для развлечения глупые театральные пьески. Я ограбил уже всего Плавта и Теренция — теперь я работаю для Гольберга. И подумайте только, директор платит мне теперь гонорар — тоже своего рода прусское изобретение.
— Так радуйтесь же! — воскликнул адвокат Манассе. — Впрочем, пастор написал еще целый научный трактат, — обратился он к Франку Брауну, — могу вас уверить, превосходный, вдумчивый труд.
— Что за пустяки! — воскликнул старый викарий. — Просто маленький опыт…
Станислав Шахт перебил: «Ах, бросьте, ваша работа — самый ценный вклад в изучение Александрийской школы, ваша гипотеза о неоплатоновском учении об эманации…»
Он сел на своего конька и стал говорить, словно епископ на церковном соборе. Высказал возражения, заявил, что не согласен с тем, что автор встал всецело на почву трех космических принципов, хотя, правда, лишь таким путем ему удалось проникнуться духом учения Порфирия и его учеников. Манассе возразил, в спор вмешался и сам викарий. Они так волновались, будто во всем мире не было ничего более важного, чем монизм Александрийской школы, который, в сущности, был ничем иным, как мистическим самоуничтожением «я», самоуничтожением путем экстаза, аскезы и теургии.
Франк Браун молча слушал их. «Вот Германия, — думал он, — вот моя родина». Год тому назад, вспомнилось ему, он сидел в баре — где-то в Мельбурне или Сиднее, с ним было трое мужчин: судья, епископ и известный врач. Они спорили и ссорились не меньше, чем эти трое, — но у них речь шла о том, кто лучший боксер: Джимми Уолш из Тасмании или стройный Фред Коста, чемпион Нового Южного Уэльса.
Сейчас же перед ним сидели маленький адвокат, все еще не получивший звания советника юстиции, священник, писавший глупые пьески для театра марионеток и, наконец, вечный студент Станислав Шахт, в сорок лет сдавший наконец докторский экзамен и не знавший теперь, что ему делать. И эти трое говорили о самых ученых, далеких от жизни вещах, не имевших решительно ничего общего с их деятельностью, говорили с той же уверенностью и с тем же знанием, с каким собеседники его в Мельбурне — о боксе. О, можно просеять сквозь сито всю Америку и всю Австралию и даже девять десятых Европы, и все же никогда не найдешь такой бездны учености…
«Вот только — все это мертво, — вздохнул он. — Давно уже умерло и пахнет гнилью, — хорошо еще, что они того не замечают».
Он спросил викария, как поживает его воспитанник, молодой Гонтрам. Адвокат Манассе тотчас же прервал свою тираду.
— Да, правда, расскажите, — ведь я, собственно, ради этого и пришел сюда. Что он пишет?
Викарий Шредер вынул бумажник и достал письмо. «Вот, прочтите сами, — сказал он, — утешительного мало», — и протянул конверт адвокату.
Франк Браун бросил взгляд на почтовый штемпель. «Из Давоса? — спросил он. — Значит, все-таки получил наследство от матери?»
— К сожалению, — вздохнул старый священник, — а ведь Иосиф был такой здоровый и свежий мальчик! Он не создан для карьеры священника, я бы выбрал что-нибудь другое, хотя и сам ношу черный сюртук, — если бы не обещал его матери на смертном одре. Впрочем, он, наверное, сам пошел бы по этому пути. Так же, как и я: ведь он сдал докторский экзамен summa cum laude. Архиепископ очень к нему расположен. Иосиф помогал мне в моей работе об Александрийской школе, из него вышел бы толк. Но вот теперь, к сожалению… — он запнулся и медленно выпил вино.
— Это произошло так внезапно? — спросил Франк Браун.
— Пожалуй, — ответил священник. — Первым поводом послужило тяжелое душевное переживание: неожиданная смерть его брата Вольфа. Вы бы видели Иосифа на кладбище: он не отходил от меня, когда я произнес небольшую речь, и смотрел на огромный венок ярко-красных роз, возложенный на гроб. До конца погребения он еще сдерживался. Но потом почувствовал себя настолько плохо, что нам пришлось нести его на руках — Шахту и мне. В коляске ему стало лучше, но у меня дома им овладела апатия. Единственное, что он сказал мне в тот вечер, это то, что он остался теперь последним из сыновей Гонтрама и что теперь очередь за ним. Апатия не оставляла его, с той минуты он был убежден, что дни его сочтены, хотя профессора после тщательного исследования подали мне вначале большие надежды. Но потом он вдруг заболел, и день ото дня ему становилось все хуже и хуже. Теперь мы отправили его в Давос, но, по-видимому, песня его уже спета.
Он замолчал, в глазах показались крупные слезы. «Его мать была посильнее, — пробурчал адвокат, — она целых шесть лет смеялась в лицо смерти».
— Царство ей небесное, — сказал викарий и наполнил стакан. — Выпьем же за нее — in memoriam.
Они чокнулись и выпили. «Скоро он останется совсем один, старый советник юстиции, — заметил доктор Шахт. — Только дочь его, по-видимому, совершенно здорова, — наверное, она переживет его».
Адвокат пробурчал: «Фрида? Нет, не думаю».
— Почему нет? — спросил Франк Браун.
— Потому что — потому что… — начал тот. — Ах, почему бы мне и не сказать вам?! — Он посмотрел недовольно, негодующе, точно собирался вцепиться в горло: — Хотите знать, почему
Фрида не переживет отца, — я вам скажу: потому что она попала в когти — этой проклятой ведьмы там в Ленденихе — только поэтому — ну, теперь вы поняли?
«Ведьмы… — подумал Франк Браун. — Он называет ее ведьмой, совсем как дядюшка Якоб в своей кожаной книге».
— Что вы этим хотите сказать, господин адвокат? — спросил он.
Манассе залаял: «Именно то, что сказал: кто встречается с фрейлейн тен-Бринкен — тому уже не уйти, как мухе из варенья. И не только не уйти — его ждет верная гибель, ничто не поможет. Берегитесь и вы, господин доктор, — позвольте предостеречь и вас. Довольно неблагородно — так предостерегать однажды сделал это — но безуспешно: говорил Вельфхену; а теперь ваша очередь — уезжайте скорее, уезжайте, пока еще не поздно. Что вас еще здесь удерживает? Что-то мне кажется, будто вы уже лакомитесь медом».
Франк Браун засмеялся, но смех прозвучал как-то деланно.
— По-моему, нет никаких оснований бояться, господин адвокат, — воскликнул он. Но не смог убедить его — и еще меньше самого себя…
Они сидели и пили. Выпили за докторский диплом Шахта и за повышение священника. Выпили за здоровье Карла Монена, о котором никто ничего не слыхал с тех пор, как тот уехал. «Он пропал без вести», — заявил Станислав Шахт. Он стал вдруг сентиментальным и запел чувствительный романс.
Франк Браун простился и направился медленным шагом в Лендених, мимо благоухающих весенних деревьев, — совсем как в былые времена.