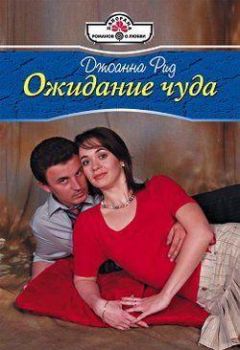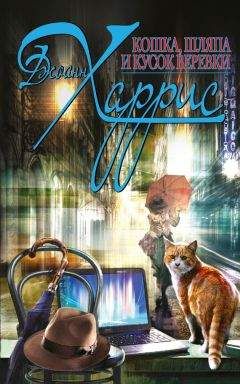Джоанн Харрис - Страхослов
Гиньоль острил и потешался, повествуя о «Le Semaine Rouge»[80], самой кровавой неделе во всей кровавой истории Парижа, превзошедшей даже эпоху Террора. Мания убийства Кейе казалась сущим пустяком на фоне чудовищных, куда более циничных ужасов. Большинство его «жертв» были уже мертвы, когда он добирался до них. Он задушил двух-трех человек, но результат его не удовлетворил. Свежие трупы были слишком сухими на его вкус. Чтобы соответствовать желаниям Кейе, труп должен был уже начать разлагаться. Тем временем сотню заложников, включая священников и монахинь, казнили по приказу Комитета общественного спасения[81]. Чтобы отомстить, победоносная армия убила тридцать тысяч человек – невиновных, виновных, не имевших никакого отношения к политике. Убить могли любого, кто подвернулся под руку.
Кэйт показалось, что каждая из этих смертей нашла свое отражение на крошечной сцене. Берма появилась в этой постановке в образе Духа Свободы[82], триколор приобнажал ее грудь. Ее застрелили. Берма медленно протанцевала по сцене под барабанную дробь выстрелов. Тонкие алые ленты, символизировавшие кровь, разлетелись от ее тела во все стороны. Оркестр заиграл «Марсельезу», нарочито фальшивя. Prima diva[83] ужасов – сегодня ее пытали, били, оглушали, душили, калечили, расчленяли, уродовали и унижали – снискала бурные аплодисменты за последнюю сценическую смерть этим вечером. Даже клакеры Морфо хлопали ей. На сцену бросали погребальные венки. Не выходя из роли, Берма сыграла смерть своей героини под грудой черных и красных цветов.
Этот номер был куда более современным, чем средневековые подземелья или экзотические страны, где разворачивалось действие других постановок Гиньоля. Бо́льшая часть зрителей еще помнила 1871 год. Они жили во времена Коммуны, похоронили друзей и родных, исстрадались. Скорее всего, некоторые богачи средних лет в зале непосредственно принимали участие в тех убийствах. Толпа представительниц буржуазии выкалывала глаза мертвому генералу коммунаров, пока офицеры регулярной армии отдавали приказы, согласно которым солдаты потом расстреливали целые районы.
Когда пали баррикады, судьи еще обсуждали дело о безумии Бертрана Кейе. Заседание прерывалось: то ему мешали кулачные бои, то дуэль, то убийство, то «чистки». Из-за ошибки писца месье Дюпона поставили к стенке вместо приговоренного к смерти месье Дюпонна[84]. En fin[85] старший судья, который легкомысленно подписал смертный приговор архиепископу Парижа, заслушивая признание Кейе, объявил самого себя безумным – в тщетной попытке избежать собственной казни. Когда Гиньоль отрубил судье голову, не осталось никого, кто мог бы вынести решение по делу печального, всеми позабытого подсудимого. Продажный тюремщик (его играл Морфо) отпустил Кейе на свободу.
Изумленный таким везением, маньяк, повинуясь довлевшим над ним страстям, отправился в свое излюбленное место. Кейе прибыл на кладбище Пер-Лашез, когда там расстреливали последних гвардейцев Коммуны. Никто не обращал внимания на жалкого убийцу-аматора – кроме сторожевого пса, укусившего Кейе, когда тот копался в могиле в поисках достаточно разложившегося трупа. Рана от укуса на ноге каннибала-оборванца нагноилась, он не стал ее лечить – и присоединился к груде тел.
Этой постановкой Гиньоль – он сам играл сторожевого пса – пытался донести до зрителей некую мысль… Пусть при этом он плясал, обвязавшись кишками, и вырывал глаза у карликов, монахинь и недовольных критиков. Если на основании преступлений Бертрана Кейе можно сделать вывод о том, что он был монстром, то что говорить о политиках и генералах, которые могли одним росчерком пера уничтожить сотню людей – да что там сотню, тысячу, тридцать тысяч, миллион, шесть миллионов!
Tableau vivante[86] вернулись, но вместо отравителей, удушителей и палачей они были одеты как политики, судьи, полицейские, священники и редакторы газет. Их руки были багровыми от крови.
На этот раз экскурсовод не стал называть, кого представляют «восковые статуи», но Кэйт узнала многих. Министр Эжен Мортен[87], сохранивший свой пост после множества коррупционных скандалов и содержавший с десяток любовниц за счет налогоплательщиков… Дознаватель Шарль Прадье[88], предлагавший ссылать на каторгу на остров Дьявола всех журналистов, которые доказывали невиновность Дрейфуса и вину Эстерхази… Генерал Ассолант[89], отозванный из Алжира после случаев полицейского произвола и поставленный во главе парижского гарнизона для поддержки общественного порядка… Отец Керн[90], исповедник членов правительства и видных общественных деятелей, по слухам – самый развратный человек Франции, хотя на публике он всегда держался скромно… И Жорж Дю Руа, редактор газет «Ла Ви Франсез», «Л’Анти-Жюиф» и детской газеты «Аризона Жим».
Гиньоль торжественно прошествовал перед рядом восковых чудовищ, награждая каждого букетом цветов и лентой – он включил этих уважаемых людей в Légion d’Horreur, Легион Ужаса!
Кэйт не ожидала увидеть здесь политическую пропаганду, но это, безусловно, была именно она. И как только Гиньолю такое сошло с рук? Редакции газет сжигали дотла, а журналистов подвергали мучениям, достойным «Системы доктора Смоля и профессора Перро», за меньшее. Как для заведения, готового нажить себе много могущественных врагов, Театр Ужасов удивительным образом никто не преследовал.
Даже до критики сильных мира сего, способных закрыть это заведение, в ходе представления Гиньоль, похоже, умудрился оскорбить всех: католиков (особенно иезуитов); протестантов (особенно масонов); евреев (что неудивительно); атеистов и вольнодумцев; консерваторов; центристов; радикалов; любого, в чьих жилах была примесь нефранцузской крови; любого, в чьих жилах французской крови не было вовсе; врачей; полицию; суды; преступников; каннибалов; военных; колониалистов и антиколониалистов; хромых и немощных; циркачей; любителей животных; людей, переживших Парижскую коммуну; друзей и родственников тех, кто не пережил Парижскую коммуну; женщин всех сословий; театральных критиков; криворуких; тупоголовых; добросердечных.
В городе, где поэтические чтения или симфонический концерт могли вызвать народный бунт, этот театр воспринимали с огромным терпением, и Кэйт подозревала, что кто-то его защищает. Неужели Театр Ужасов приносил столь большую прибыль, что его руководство могло себе позволить подкупить всех? Включая парижскую толпу, которую, как известно, очень легко спровоцировать и совсем нелегко задобрить.