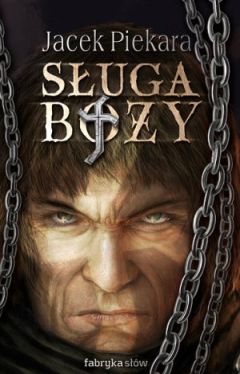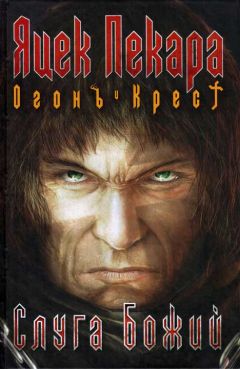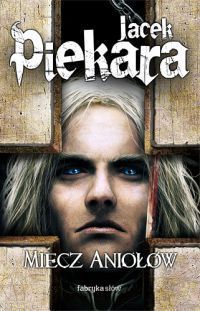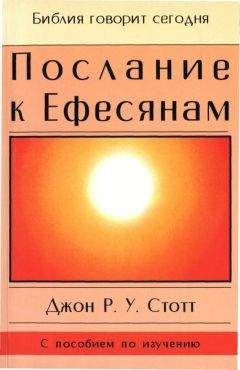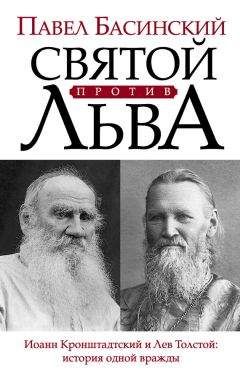Яцек Пекара - Молот ведьм
Витус сидел на табурете со связанными за спиной руками. Он был старше меня и изнежен бездельем и достатком, но я не собирался подвергать себя риску стычки. Не то, чтобы он мог мне чем-то угрожать. Это я не хотел навредить ему, ибо ведь намного легче путешествовать со здоровым человеком.
— Я стал обращённым, — ответил он, глядя мне прямо в глаза.
— Ого, сильные слова, Витус! И в какую же это веру, позволь спросить?
— Верю в Иисуса Христа, — отчётливо сказал он.
— И чем же эта вера помешала тебе составить рапорт?
— Поскольку вы бы обидели ребёнка и его мать, — ответил он твёрдо. — А у мальчика не только были доказательства стигматов, но он говорил голосом Бога! И испытывал муки Господа нашего, также как Он некогда испытывал их на Кресте. Ибо эта болезнь не к смерти, но к славе Божией!
— Говорил голосом Бога, — повторил я без иронии и издёвки. — И что ж такого он говорил, Витус?
— И был я убит, а копьё пробило мне бок. И должен был я принести вам искупление моей мукой и смертью. Но сошёл Зверь тогда, проник в мёртвое тело, и рана на теле зажила. И сломал Зверь Крест, сходя с железом и огнём в руках. И вместо царства любви и мира настала власть Зверя, — процитировал он, снова глядя мне прямо в глаза.
Я вернул ему взгляд, а потом медленно покачал головой.
— Витус, мой Витус. Ты и правда поверил, что наш Господь мог бы умереть на Кресте? Позволяя восторжествовать язычникам и приговаривая своих последователей на бесконечные преследования? Иисус до последнего оставлял мучителям шанс, до последнего умолял, чтобы присоединились к нему, дабы вкусили плодов истинной веры. А раз они остались слепы, Он сошёл с Креста, дабы в славе покарать их муками. Это есть одна, единственная и настоящая правда. Как ты мог поверить демонам, говорящим устами несчастного ребёнка? Ты, инквизитор!
— Я обрёл просветление, — произнёс он, не отводя взгляда, а в его голосе была какое-то необыкновенное достоинство, так не подходящее тому Витусу, которого я знал по Академии. — Верю, что наш Господь погиб в муке, дабы отдавая жизнь, спасти нас от греха. Вскоре воскреснет, а этот мальчик говорит устами Иисуса и возвестит нам, что делать!
— Ты безумен, Витус. — Я покрутил головой, даже не в силах вызвать у себя чувство удовлетворения, что вот мой давний враг утопил себя своими словами так глубоко, как ни один инквизитор до него. — Безумен или одержим. Буду молиться за тебя.
— Не нуждаюсь, — огрызнулся он с неожиданным презрением, — в твоих молитвах. Мой Бог со мной.
— Тот, что умер? — рассмеялся я. — Не был он, видно, слишком могучим, раз не смог даже о себе позаботиться. Есть только один Бог, Витус, тот, молитвам которому тебя учили. Не помнишь слов: Страдал при Понтии Пилате, был распят, сошёл с Креста, в славе принёс слово и меч народу своему?
— Он воскреснет, — сказал Майо с верой в голосе. Его глаза блестели безумием, и я видел, что мне его не убедить. Впрочем, не это было моим заданием.
— Нет, — ответил я. — Зато ты осознаешь свои ошибки…
Он покрутил головой. У него были сжатые губы и написанное на лице упрямство.
— Дай мне закончить. — Я поднял руку. — Скажи, ты видел кокосовый орех? Коричневый, продолговатый, в твёрдой скорлупе, растёт на юге…
Он кивнул, но я видел, что не понимает, почему я об этом его спрашиваю и куда клоню.
— В середине этой твёрдой скорлупы есть бесцветная жидкость, часто горькая или гнилая. Но туземцы умеют расколоть орех, вылить его сок и очистить скорлупу. А потом вливают в него вино или воду и используют, как мы кубки. — Я улыбнулся ему. — Ты являешься таким гнилым орехом, Витус. Но поверь мне, мы наполним тебя родниковой водой чистой веры.
Он вздрогнул, а в его глазах впервые блеснул страх. Он был инквизитором, значит знал, что случится так, как говорю. Его бывшие братья, в смирении и с любовью, объяснят ему все ошибки, так, чтобы умирал, полон хвалы Господу. С искренним сожалением, что когда-либо мог усомниться, и полон презрения к самому себе — тому, кто сошёл с прямых троп веры. Немного останется от грешного тела, но мы спасём его душу, дабы могла через века чистилища радоваться у небесного престола Господа.
— Почему ты со мной так поступил, Мордимер? — с горечью спросил он после минуты молчания, но я по-прежнему видел страх в его зеницах. — Почему ты вообще сюда приехал? Ты настолько сильно хотел отомстить за ошибки моей молодости? За ошибки, о которых я сейчас жалею и за которые каждый день молю Бога о прощении?
Я посмотрел ему прямо в глаза.
— Моя собака, — сказал я и увидел, что он не понимает, а, скорее, не помнит, о чём я говорю. Это причинило мне ещё большую боль, поскольку свидетельствовало о том, что мои муки были всего лишь ничего незначащим эпизодом в его жизни.
— Я нашёл бездомного пса, — продолжал я спокойно. — Вылечил его и выкормил. А ты его нашёл и сжёг, показывая нам, как поддерживать огонь, чтобы жертва не умерла слишком быстро.
В его глазах блеснуло что-то вроде понимания.
— Ты сошёл с ума, Мордмер? — тихо спросил он. — Ты думаешь о собаке из своего детства? Ты, кто замучил и приказал убить людей больше, чем можешь вспомнить?
— Это крест, который я несу к славе Господа, — произнёс я. — Но я никогда не убивал ради удовольствия. Я никогда не мучил без важной причины. Чем провинился перед тобой пёс, который полюбил меня, Витус? Ты связал ему пасть верёвкой, чтобы он не мог выть, но я видел, как он плачет и смотрит на меня, не понимая, почему я не спасаю его от боли.
Он отпрянул к стене вместе со стулом, на котором сидел, но зря. Я не собирался его бить, хотя когда-то я мечтал об этом. Я обхватил левое запястье пальцами правой руки, чтобы он не заметил, как задрожала у меня рука.
— Это было так давно, — он смог сказать лишь это. — Будто в другой жизни.
— В саду моей памяти ухаживаю за разными цветами, — ответил я. — А мера наказания никогда не может зависеть от времени, которое прошло от совершения преступления, или от последующих поступков грешника.
— Преступления? — он почти взвыл. — Это была лишь собака!
Я покачал головой, ибо ведь не думал, что он был в состоянии понять.
— Что ж, видимо, я слишком сентиментален, — ответил я и вышел за стражниками, чтобы забрали его. Им потребовалось сильно дёрнуть его за плечи, чтобы он двинулся.
Я знал, что теперь уже смогу забыть, а из сада моей памяти исчезнет мрачный цветок, который рос в нём решительно слишком долго.
Эпилог
Вдова Риксдорф испугалась, когда увидела, что я сижу на её собственной кровати, в её собственной спальне. Я улыбнулся лишь губами.