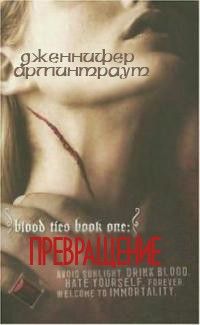Энн Райс - Вампир Арман
Моя агония была так ужасна, что я мог лишь закрыть глаза и застонать, застонать из-за того, что лишился этих быстрых хрустальных нот, лишился этой нетронутой остроты, этого бессловесного звука, тем не менее, поговорившего со мной, умолявшего меня стать свидетелем, умолявшего меня разделить и понять чужое напряженное и бесконечно требовательное душевное смятение.
Меня всколыхнул чей-то крик. Я открыл глаза. Комната, где я стоял, оказалась большой, она была набита разрозненными, но дорогими предметами, картинами в рамах от пола до потолка, коврами с цветочными узорами, разбегавшимися под изогнутыми ножками современных стульев и столов, и пианино, громадное пианино, откуда и исходил этот звук, оно сияло среди этой суматохи длинной полоской ухмыляющихся белых клавиш – торжество сердца, души и ума.
Передо мной на полу стоял на коленях мальчик-араб с глянцевыми коротко стрижеными кудрями, в маленькой, но сшитой точно по размеру джеллабе – в хлопчатобумажном одеянии жителей пустыни. Он сидел, зажмурившись, обратив к потолку круглое личико, хотя он меня и не видел, сведя брови и отчаянно шевеля губами, выпаливая арабские слова:
– Приди кто угодно, демон, ангел, останови его, ну приходи из тьмы, мне все равно, кем ты будешь, лишь бы у тебя хватило сил и мстительности, мне все равно, кто ты, выйди из света, приди по воле богов, не терпящих жестоких мерзавцев. Останови его, пока он не убил мою Сибель. Останови его, тебя вызывает Бенджамин, сын Абдуллы, возьми в залог мою душу, возьми мою жизнь, но приходи, приходи, у тебя больше сил, чем у меня, спаси мою Сибель.
– Тихо! – заорал я.
Я задыхался. У меня взмокло лицо. У меня безудержно дрожали губы.
– Что тебе нужно, говори!
Он посмотрел на меня. Он меня увидел. Его круглое византийское личико словно чудесным образом сошло с церковной фрески, но он был здесь, он был настоящий, он увидел меня, и именно меня он и хотел увидеть.
– Смотри, ты, ангел! – закричал он обострившимся от арабского акцента юным голосом.
– Раскрой пошире свои большие прекрасные глаза!
Я посмотрел. До меня мгновенно дошла суть происходящего. Она, молодая женщина, Сибель, сопротивлялась, цепляясь за пианино, не давая стащить себя с табурета, стараясь достать пальцами клавиши, плотно сжав рот, хотя через стиснутые губы прорывался ужасный стон; над плечами летали золотистые волосы. Ее тряс мужчина, тянул ее, орал на нее и внезапно сильно ударил ее кулаком, так что она упала назад, через табурет, перевернувшись через голову – нескладный клубок рук и ног на покрытом ковром полу.
– «Апассионата», «Апассионата», – ревел он, настоящий медведь, темперамент под стать мании величия. – Не буду я слушать, не буду, не буду, отвяжись от меня, от моей жизни. Это моя жизнь! – Он ревел, как бык. – Хватит, поиграла!
Мальчик подпрыгнул и схватил меня. Он сжал мои руки, а когда я уставился на него в недоумении и стряхнул его, он вцепился в мои бархатные манжеты.
– Останови его, ангел. Останови его, дьявол! Сколько можно ее бить! Он же ее убьет. Останови его, дьявол, останови, она же хорошая!
Она встала на колени и поползла, скрывая лицо вуалью спутанных волос. Сбоку на талии виднелось большое пятно подсохшей крови – пятно, глубоко въевшееся в ткань с цветочными узорами. Я в возмущении следил, как мужчина отходит. Высокий, бритоголовый, с налившимися кровью глазами, он заткнул уши руками и осыпал ее ругательствами:
– Ненормальная, тупая стерва, ненормальная, спятившая стерва, эгоистка. Мне что, жить нельзя? Нельзя жить по справедливости? У меня что, своих желаний нет?
Но она опять раскинула руки над клавишами. Она устремилась прямо ко второй части «Апассионаты», словно ее никто и не прерывал. Ее руки ударяли по клавишам. Один неистовый залп нот за другим, как будто их написали с одной только целью – ответить ему, бросить ему вызов, выкрикнуть: я не прекращу, не прекращу… Я видел, что сейчас будет. Он обернулся и окинул ее злобным взглядом, лишь для того, чтобы довести свою ярость до предела, он широко раскрыл глаза, рот исказился в гримасе боли. На губах заиграла смертельно опасная улыбка. Она раскачивалась на табурете взад-вперед, ее волосы летали в воздухе, лицо приподнялось, ей не приходилось смотреть на клавиши, управлять движением рук, перебегавших справа налево, ни разу не потерявших управление потоком. Из-за ее плотно сжатых губ послышались тихие звуки, отшлифованные звуки – она напевала мелодию, струящуюся из-под клавиш. Она выгнула спину и опустила голову, ее волосы упали на разбегающиеся руки. Она продолжала, она перешла к грому, к уверенности, к отказу, к вызову, к утверждению – да, да, да, да. Мужчина сделал шаг в ее направлении. Обезумевший мальчик в отчаянии бросил меня и метнулся между ними, но мужчина двинул его сбоку с таким бешенством, что мальчик растянулся на полу. Но не успели руки мужчины опуститься на ее плечи – а она уже опять перешла к первой части, «Апассионата» в самом разгаре, как я схватил его и развернул лицом к себе.
– Убьешь ее, да? – прошептал я. – Что ж, посмотрим.
– Да! – воскликнул он, по лицу лился пот, блестели выпуклые глаза. – Убью! Она раздражает меня до безумия, она меня с ума сводит, все она, и она умрет!
Слишком взбешенный, чтобы хотя бы удивиться моему присутствию, он попытался оттолкнуть меня в сторону и вновь пристально уставился на нее.
– Черт тебя подери, Сибель, прекрати эту музыку, прекрати!
Мелодия и аккорды опять достигли громового темпа. Откидывая волосы из стороны в сторону, она ринулась в атаку. Я оттолкнул его, схватил левой рукой за плечо, правой сдвинул подбородок наверх, чтобы не мешался, и уткнулся лицом в его горло, разорвал его и глотнул полившуюся мне в рот кровь. Она оказалась обжигающей, густой, полной ненависти, полной горечи, полный разбитых надежд и мстительных фантазий. Какая же она была горячая. Я пил ее глубокими глотками и все видел – как он любил ее, лелеял ее, ее, талантливую сестренку, он, ловкий, злой на язык брат, кому медведь на ухо наступил, как он вел ее к вершине своей драгоценной и рафинированной вселенной, пока общая трагедия не оборвала ее восхождение и не заставила ее, обезумевшую, отвернуться от него, от воспоминаний, от амбиций, и навеки запереться в траур по жертвам трагедии, по любящим, рукоплескавшим родителям, погибшим на извилистой дороге, ведущей через далекую темную долину, в одну тех самых ночей, что предшествовали ее величайшему триумфу, дебюту гениальной пианистки на глазах всего мира. Я увидел, как их машина тяжело, с грохотом неслась в темноте. Я услышал, как болтал брат на заднем сиденье, пока сестра крепко спала. Я увидел как эта машина врезалась в другую машину. Я увидел звезды, жестоких и безмолвных свидетелей. Я увидел израненные, безжизненные тела. Я увидел ее потрясенное лицо – она стояла, целая и невредимая, в порванной одежде, на обочине. Я услышал, как он кричал от ужаса. Я услышал его неверящие проклятья. Я увидел разбитое стекло. Повсюду – разбитое стекло, блестящая красота под фарами. Я увидел ее глаза, ее бледные голубые глаза. Я увидел, как закрылось ее сердце. Моя жертва была мертва. Он выскользнул из моих рук. В нем осталось столько же жизни, что и в его родителях в том жарком пустынном месте. Он был мертв, скомкан, он больше не сможет обидеть ее, дергать ее длинные золотые волосы, бить ее или останавливать ее музыку. В комнате воцарилась приятная тишина, если не считать ее игры. Она опять добралась до третьей части и мягко покачивалась в такт его более спокойному началу, вежливому, размеренному шагу. Мальчик затанцевал от радости. Настоящий арабский ангел, он подпрыгивал в воздух в своей изящной маленькой джеллабе, босоногий, с покрытой густыми черными кудрями головой, он танцевал и выкрикивал: