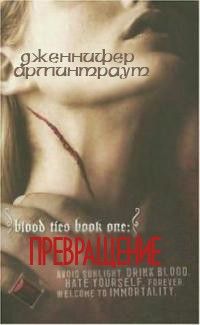Энн Райс - Вампир Арман
– Берите, берите тело Христа! – говорил я. Меня окружили темные колышущиеся фигуры, выросшие прямо из блестящего золотисто-серебряного пола. Это были стволы деревьев, их ветви загибались вверх, а потом опускались ко мне, и с ветвей падали листья и ягоды, падали на алтарь, на золотое блюдо, на священный хлеб, превратившийся в кучу кусочков.
– Забирайте! – крикнул я. Я поднял мягкие зеленые листья и ароматные желуди и передал их нетерпеливым рукам. Я опустил взгляд и увидел, что из моих пальцев сыпется пшеница, зерна, которые я отдавал раскрытым губам, насыпал в открытые рты. Воздух сгущался от беззвучно падающих зеленых листьев, их было столько, что все вокруг окрасилось в мягкий блестящий оттенок зеленого, но внезапно в картину ворвались стайки крошечных птиц. В небеса вспорхнули миллионы воробьев. Воспарил миллион зябликов, расправляя крылышки на сверкающем солнце.
– Отныне и во веки веков, в каждой клетке, в каждом атоме, – молился я.
– Воплощение, – сказал я. – Да пребудет с нами Господь.
Мои слова снова зазвенели, словно мы стояли под крышей, под крышей, способной откликнуться на мою песню, но нашей крышей было только открытое небо. Меня сдавливала толпа. Она окружила алтарь. Мои братия ускользнули, тысячи рук мягко тянули их облачение, стягивая их со стола Господа. Со всех сторон подступали голодные, принимавшие от меня хлеб, принимавшие зерно, принимавшие целыми пригоршнями желуди, принимавшие даже нежные зеленые листья. Рядом со мной встала моя мать, моя прекрасная мать с грустным лицом, ее густые седые волосы прикрывал красиво расшитый головной убор, с испещренного морщинами лица она устремила на меня глаза, а в дрожащих руках, в иссохших застенчивых пальцах, она держала самое потрясающее подношение – крашеные яйца! Красные и синие, золотые и желтые, украшенные лентами и бриллиантами, венками полевых цветов, мерцающие лаком, как гигантские золотые камни. И там, в самом центре подношения в ее дрожащих морщинистых руках, лежало то самое яйцо, которое она доверила мне когда-то давным-давно, легкое, сырое яйцо, выкрашенное в блестящий яркий рубиново-красный цвет, а в центре увитого лентами овала горела золотая звезда – то самое драгоценное яйцо, несомненно, ее лучшее творение, лучшее достижение проведенных за расплавленным воском и кипящими красками часов. Оно не потерялось. Оно никогда не терялось. Оно было здесь. Но с ним что-то происходило. Это было слышно. Слышно даже за громогласной разрастающейся песней толпы, почти незаметный звук внутри яйца, незаметный звук бьющихся крыльев, незаметный крик.
– Мама, – сказал я.
Я взял его. Я взял его в обе руки и нажал большими пальцами на ломкую скорлупу.
– Нет, сынок! – вскричала она. Он взвыла.
– Нет, сын мой, нет, нет!
– Слишком поздно.
Мои пальцы продавили лакированную скорлупу, а из осколков вылетела птица, прекрасная, взрослая птица, птица с белоснежными крыльями, крошечным желтым клювом и блестящими угольно-черными глазками. Я испустил долгий глубокий вздох. Она поднялась из яйца, расправила свои безупречно белые крылья и раскрыла клюв в неожиданном пронзительном крике. Она взлетела вверх, эта птица, освободившаяся от разбитой красной скорлупы, поднимаясь все выше и выше, над головами прихожан, над мягким водоворотом зеленых листьев и порхающих воробьев, над великолепным гомоном звенящих колоколов.
Колокола звучали так громко, что сотрясались даже кружащиеся в воздухе листья, так громко, что содрогались уходящие ввысь колонны, что толпа покачивалась и пела еще усерднее, стремясь слиться в унисоне со звучным золотогорлым перезвоном. Птица улетела. Птица вылетела на свободу.
– Христос родился, – прошептал я. – Христос рожден. Христос на небесах и на земле. Христос с нами. Но никто не мог расслышать мой голос, мой обращенный к самому себе голос, но какое это имело значение, раз весь мир пел общую песню? Меня схватила чья-то рука. Грубо, злобно рванула она мой белый рукав. Я повернулся. Я набрал в рот воздуха, чтобы закричать, но застыл от ужаса. Откуда ни возьмись, рядом со мной возник человек, он стоял так близко, что наши лица практически соприкасались. Он сердито смотрел на меня сверху вниз. Я узнал его рыжие волосы и бороду, неистовые и нечестивые голубые глаза. Я знал, что это – мой отец, но это был не мой отец, а какое-то жуткое, могущественное существо, вселившееся во внешнюю оболочку моего отца, выросшее рядом со мной, как колосс, обжигая меня взглядом, дразня меня своей силой и своим ростом. Он вытянул руку и шлепнул тыльной стороной ладони по золотой чаше. Она пошатнулась и упала, освященное вино запачкало кусочки хлеба, запачкало покровы алтаря из золотой ткани.
– Не смей! – крикнул я. – Смотри, что ты наделал! – Неужели за пением меня никто не слышит?
Неужели никто не слышит меня за боем колоколов? Я остался один. Я находился в современной комнате. Я стоял под белым оштукатуренным потолком. Я стоял в жилом доме. Я стал самим собой, маленькой мужской фигуркой с прежними взъерошенными кудрями до плеч, в фиолетово-красном бархатном пиджаке и в пышных белых кружевах. Я прислонился к стене. Я стоял, застыв от изумления, зная только, что каждая частица этой комнаты, каждая частица меня не менее реальны и тверды, как то, что происходило на долю секунды раньше. Ковер под ногами был такой же настоящий, как листья, снежинками кружившиеся по громадному Софийскому собору, а мои руки, мои безволосые мальчишеские руки – такими же реальными, как руки священника, которым я был секунду назад, который преломлял хлеб. В моем горле зарождался ужасный стон, ужасный крик, которого я сам бы не вынес. Если его не выпустить, я перестану дышать, и это тело, будь оно проклятым или святым, смертным или бессмертным, чистым или испорченным, наверняка разорвется. Но меня успокоила музыка. Медленно выплыла музыка, чистая, утонченная, совершенно не такая, как грандиозный, величественный цельный хор, который я только что слышал. Из тишины выскочили идеальной формы разрозненные ноты, множество льющихся водопадом звуков, разговаривавших резко и прямо, словно бросали удивительный вызов излюбленному мной наплыву звука. Подумать только – какие-то десять пальцев способны вытащить эти звуки из деревянного инструмента, внутри которого настойчивым твердым движением бьют по бронзовой арфе с туго натянутыми струнами молоточки. Я узнал ее, я узнал эту песню, я узнал фортепьянную сонату, в прошлом я любил ее, теперь же меня парализовала ее ярость. «Апассионата». Вверх-вниз мчались ноты потрясающими трепетными арпеджио, с грохотом скатываясь вниз, громыхая стучащим стаккато, затем поднимались и снова набирали скорость. Оживленная мелодия продвигалась вперед, красноречивая, праздничная и удивительно человеческая, требуя, чтобы ее не только слушали, но и чувствовали, требуя, чтобы слушатель следовал каждому замысловатому изгибу и повороту. «Апассионата». В яростном урагане нот я расслышал звучное эхо, отскакивающее от дерева; расслышал вибрацию гигантской упругой бронзовой арфы. Я расслышал шипящую дрожь его бесчисленных струн. О да, дальше, дальше, дальше, дальше, громче, жестче, бесконечная чистота и бесконечное совершенство, звенящее и выжатое, словно ноту использовали как хлыст. И как человеческим рукам удается творить это волшебство, как они выбивают из клавиш, сделанных из слоновой кости, этот потоп, эту взбудораженную, громоподобную красоту? Музыка кончилась.