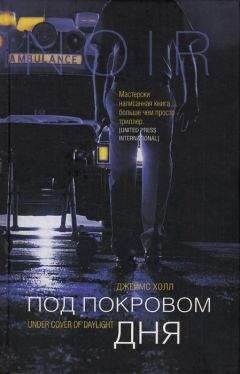Энн Райс - Кровь и золото
Почему же он не забирает икону?
– Мама, оставь ее себе. Сохрани для малышей. Я не возьму.
Он плакал, ведь эта икона предопределила его судьбу.
Мать смирилась.
Но взамен иконы вручила ему другой маленький подарок: красиво расписанное яйцо – одно из киевских сокровищ, имеющих огромное значение для тех, кто по традиции украшает их замысловатыми узорами.
Он быстрым и нежным движением забрал подарок, а потом обнял ее и страстным шепотом постарался объяснить, что не сделал ничего плохого, что разбогател честным путем, что когда-нибудь, может статься, еще вернется домой.
Сладкий обман.
Но я видел, что, несмотря на любовь к матери, он страдает не из-за нее. Да, он отдал ей золото, но деньги для него ничего не значили. Ему не давал покоя мужчина. Да, его отец. И еще монахи. Отец вызвал в его душе бурю эмоций и заставил наговорить резких слов.
Я был потрясен. Но разве Амадео не испытывал схожих чувств? Он, как и я, считал отца погибшим.
Обнаружив, что отец жив, Амадео оказался во власти навязчивой идеи: этот человек сражался с монахами за его душу. Я сознавал, что Амадео любит его намного больше, чем когда-нибудь любил меня.
Мы отправились в обратный путь – в Венецию.
Сам понимаешь, мы это не обсуждали, но я знал, что в сердце Амадео отец прочно занял первое место. Личность сильного бородатого человека, яростно боровшегося против монахов, готовивших мальчика к смерти в лавре, казалась ему превыше всех.
Я своими глазами наблюдал, как рождалась эта навязчивая идея. Все произошло за считанные минуты в кабаке у реки, но я постиг истинную природу одержимости Амадео.
До путешествия в Киев я считал, что расколом души Амадео обязан противоречию между богатым и разнообразным венецианским искусством и строгим, стилизованным искусством Древней Руси.
Но я понял, что ошибался.
То был раскол между монастырем, иконами и самобичеванием, с одной стороны, и отцом, полным сил и воли к жизни охотником, в роковой день вытащившим сына из лавры, – с другой.
Амадео больше никогда не упоминал ни об отце, ни о матери. Никогда не говорил о Киеве. Он положил красивое расписное яйцо к себе в саркофаг, так и не объяснив мне его значения.
Случалось, что я работал в студии, страстно увлеченный новым полотном, а он заходил составить мне компанию и теперь уже совсем по-иному взирал на мои картины.
Когда же он все-таки возьмется за кисти и краски? В конце концов я перестал задаваться этим вопросом. Он принадлежит мне навсегда. Пусть делает что хочет.
Однако в глубине души я подозревал, что Амадео меня слегка презирает. Мои уроки, посвященные искусству, истории, красоте, цивилизации, на самом деле были ему неинтересны.
Момент, когда его захватили татары, а икона упала в густую траву, не только определил его судьбу, но и лишил способности воспринимать что-то новое.
Да, я мог роскошно его одеть, научить нескольким языкам, он мог полюбить Бьянку и танцевать с ней под медленную ритмичную музыку, он умел вести философские беседы и писать стихи.
Но в душе его не было ничего святого, кроме древних картин и человека, который дни и ночи напролет пил в кабаке на берегу Днепра. А я, невзирая на силу и прочие достоинства, не мог занять место отца в сердце Амадео.
Отчего же я так ревновал? Почему это так меня задевало?
Я любил Амадео не меньше, чем в свое время Пандору. Или Боттичелли. Амадео прочно занял место в ряду тех немногих, к кому я в своей долгой бессмертной жизни испытывал особую привязанность.
Я постарался забыть о ревности. В конце концов, что я мог сделать? Напомнить ему о путешествии? Извести вопросами? Нет, только не это.
Но я чувствовал, что такие проблемы опасны для бессмертного, что никогда еще я не мучился, не подставлял себя под удар по подобной причине. Я-то рассчитывал, что Амадео отнесется к своей семье отрешенно и свысока, но вышло как раз наоборот!
Пришлось признать, что на мое отношение к Амадео повлияло увлечение смертной жизнью, что я с головой ринулся в человеческий мир, а он оставался безнадежно близок к людям. Пройдет не одно столетие, прежде чем он испытает то отчуждение от смертных, которого я достиг в ту ночь, когда впервые получил Кровь.
В жизни Амадео не было священной рощи друидов. Не было опасного путешествия в Египет. Ему не пришлось спасать царя и царицу.
Вот почему, взвесив все «за» и «против», я решил не открывать ему тайну Тех, Кого Следует Оберегать, хотя сами эти загадочные слова, бывало, у меня и вырывались.
Наверное, до Рождения Амадео во Тьму я не сомневался, что сразу же отведу его в святилище и буду умолять Акашу принять нового подданного, как она приняла Пандору.
Но я передумал. Пусть наберется опыта; пусть совершенствуется. Пусть станет мудрее.
Разве мало того, что я получил общество и утешение, о которых не мог и мечтать? Даже в дурном расположении духа он оставался со мной. Не важно, что при виде моих полотен его глаза тускнеют, что слепящие краски оставляют его равнодушным, – важно, что он все равно был рядом.
Да, Амадео долго молчал, вернувшись из Киева, но я знал, что печаль пройдет.
И она наконец оставила его.
Через несколько коротких месяцев он перестал мрачнеть и чуждаться меня. Ко мне вернулся мой прежний спутник: он возобновил посещения пиров и балов знатных горожан (где я регулярно присутствовал), снова писал стихи для Бьянки и спорил с ней о написанных мною картинах.
Ах, Бьянка! Как мы ее любили! И я частенько пытался проникнуть в ее мысли, дабы убедиться, что она даже не догадывается о нашей сверхъестественной сущности.
Бьянка стала единственной из смертных, кому дозволялось входить в мою мастерскую, но при ней я, естественно, не мог работать в полную силу и с прежней скоростью. Приходилось, словно простому смертному, поднимать руку с зажатой в пальцах кистью. Но их с Амадео приятные рассуждения о великом замысле моих картин (которого в реальности не было) стоили того.
Все шло неплохо, пока в одну из ночей, спускаясь с крыши палаццо, я не почувствовал, что с крыши дома напротив за мной следит очень молодой смертный.
Амадео меня не сопровождал – он остался в палаццо в обществе Бьянки.
Я метнулся вниз так быстро, что даже мой юный спутник при всем желании не заметил бы меня. Однако смертный издалека почувствовал мое присутствие, и, осознав это, я многое понял.
Меня выследил смертный шпион, заподозривший, что я не человек. Смертный шпион, уже давно наблюдавший за мной.
Впервые за все прошедшие годы возникла столь серьезная угроза моей тайне. Естественно, я готов был сделать поспешный вывод, что попытка жизни в Венеции провалилась. Стоило мне решить, будто я одурачил весь город, как меня раскусили.