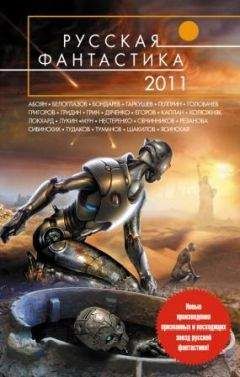Виктор Колупаев - Безвременье
Перед моим лицом развернули газету "Вторжение" и приказали читать вслух, стимулируя мой голос легкими пинками и толчками.
— "Государство и революция". Сочинение Отца всех времен и народов — Ивановского, — начал я. — На известной ступни развития демократии она, во-первых, сплачивает революционный против капиталистов класс — пролетариат и дает ему возможность разбить, сломать вдребезги, стереть с лица земли буржуазную армию, полицию, чиновничество, заменить их б о л е е демократической, но все еще государственной машиной в виде вооруженных рабочих масс, переходящих к поголовному участию народа в милиции.
Грамматически и синтаксически текст был вполне правилен, Словечки, вроде "поголовно" указывали на то, что в анклаве есть домашние животные, которых именно так и пересчитывают. Да я и сам видел их в Смолокуровке. Тут мне решительно напомнили, чтобы я продолжал.
— Здесь "количество переходит в качество"! — заорал я, что было мочи. — Такая степень демократизма связана с выходом из рамок буржуазного общества, с началом его социалистического переустройства. Если действительно все участвуют в управлении государством, тут уж капитализму не удержаться. — У меня даже злорадство какое-то в душе появилось: не удержаться капитализму, ни за какие коврижки не удержаться! Я продолжил чтение: — И развитие капитализма, в свою очередь, создает предпосылки для того, чтобы действительно "все" могли участвовать в управлении государством. К таким предпосылкам принадлежит поголовная грамотность, осуществленная уже рядом наиболее передовых капиталистических стран, затем "обучение и дисциплинирование" миллионов рабочих крупным, сложным обобществленным аппаратом почты, железных дорог, крупных фабрик, крупной торговли, банковского дела и т.д. и т.п.
— И тэ дэ и тэ пэ! — поддержали меня в народе. — И тэ дэ и тэ пэ!
— При таких экономических предпосылках вполне возможно немедленно, с завтра на сегодня, перейти к тому, чтобы свергнуть капиталистов и чиновников, заменить их — в деле контроля за производством и распределением, в деле учета труда и продуктов — вооруженными рабочими, поголовно вооруженным народом. Не надо смешивать вопрос о контроле и учете с вопросом о научно образованном персонале инженеров, агрономов и прочих: эти господа работают сегодня, подчиняясь капиталистам, будут работать еще лучше завтра, подчиняясь вооруженным рабочим.
— Еще как будут работать! — единодушно поддержали меня. — Еще как!
"Эх, Прова бы сюда, — подумал я. — Его голосовых связок хватило бы кварталов на пять". Но передохнуть мне не давали.
— Учет и контроль — вот главное, что требуется для "налаживания", для правильного функционирования первой фазы коммунистического общества. Все граждане превращаются здесь в служащих по найму у Государства, каковым являются вооруженные рабочие. Все граждане становятся служащими и рабочими одного всенародного, государственного "синдиката". Все дело в том, чтобы они работали поровну, правильно соблюдая меру работы, и получали поровну. Учет этого, контроль за этим упрощен капитализмом до чрезвычайности, до необыкновенно простых, всякому грамотному человеку доступных операций наблюдения и записи, знания четырех действий арифметики и выдачи соответствующих расписок.
— Знаем! Знаем! Дважды два — четыре! Дважды два — четыре!
Я, видимо, исчерпал лимит времени на распятие, потому что на крест подталкивали уже другого потенциального оратора, а меня пытались стащить. Но я выворачивал шею, цеплялся глазами за текст программного документа. Мне было интересно, что там дальше.
— Когда большинство народа начнет производить самостоятельно и повсеместно такой учет, такой контроль за капиталистами, превращенными теперь в служащих, и за господами интеллигентиками, сохранившими капиталистические замашки, тогда этот контроль станет действительно универсальным, всеобщим, всенародным, тогда от него нельзя будет никак уклониться, "некуда будет деться".
— Достаточно! Принят! Принят! Давай следующего!
Я не давался в руки и все норовил схватить глазами еще хотя бы одну фразу.
— Все общество будет одной конторой, — успел я процитировать Отца, — и одной фабрикой с равенством труда и равенством оплаты!.
Меня стащили с помоста, я упал, но не расшибся. И уже другой посвящаемый в таинство коммунизма, сначала робким и дрожащим, но затем все более твердым и решительным голосом цитировал великое произведение Отца "Государство и революция".
— Ибо когда все научатся управлять и будут на самом деле управлять самостоятельно общественным производством, самостоятельно осуществлять учет и контроль тунеядцев, баричей, мошенников и тому подобных "хранителей традиций капитализма", — тогда уклонение от этого всенародного учета и контроля неизбежно сделается таким неимоверно трудным, таким редчайшим исключением, будет сопровождаться, вероятно, таким быстрым и серьезным наказанием, ибо вооруженные рабочие — люди практической жизни, а не сентиментальные интеллигентики, и шутить с собой не позволят, что необходимость соблюдать несложные, основные правила всякого людо-человеческого общежития очень скоро станет привычкой, инстинктом.
— Гвоздь марксизма!
— Верна-а-а!
— К сохе! К станку! К стенке!
Бочком, бочком, иногда даже пятясь, отходил я от митингующих в революционном экстазе. Вот и улица Временная. Она неширока, но благодаря низким зданиям кажется просторной. Я знаю, что это самая оживленная улица города. Здесь все еще множество всевозможных киосков, лотков, с которых торгуют овощами, разной снедью и дешевыми пестрыми книжонками; лавчонок, в которых кроме всего прочего можно и поесть и промочить горло; мелких, на пять — шесть мест открытых кафе, устроившихся под естественными навесами золотистых тополей. Здесь заключаются деловые и коммерческие сделки (в рамках возможностей окапиталистиченных пока еще граждан), ведется меновая торговля и просто обмен разнообразными новостями.
Я вглядываюсь в лица прохожих, стараясь угадать по ним мысли спешащих (мелкие служащие, интеллигентики), слоняющихся без дела (еще ничего не знающие о всенародном учете бродяги), степенно идущих (буржуазия средней руки). Есть среди них и особая категория, которая определяется при наличии известного опыта: тайные агенты, уже осуществляющие тотальный учет. Но, боюсь, что большая часть из них осталась для меня нераспознанной.
Я был почти у места, где можно было сбросить личину гуляющего и помятого пижона, как мне пришлось пережить несколько неприятных минут. Внезапно послышался вой сирен машин стражей, раздался топот солдатских ботинок. Группы автоматчиков в серых шлемах высыпались из бронетранспортеров и броневиков, перегораживая улицу. Противный холодок пополз по спине. Неужели они меня засекли? Солдаты врывались в дома, выбегали обратно и быстро продвигались к тому месту, где стоял я. Медлить нельзя было ни секунды. План города разом возник в моей голове. Проскочив двор ближайшего дома, я перемахнул несколько заборов и помчался по улице Слепой.
Улица Слепая — грязное, вонючее место. Она идет параллельно двум другим, на которые выходят фасады домов, а их "зады", лишенные окон, и образуют улицу Слепую. Сюда, на непроезжую и трудно проходимую территорию круглый год вываливаются отслужившие свою сверхдолгую службу вещи, выливаются помои; сюда же жители выбрасывают пустые бутылки, жестянки из-под консервов, дохлых кошек; здесь же пасутся бездомные собаки, страшно тощие.
Зато встреча с "голубомундирниками" здесь маловероятна. Ближе к площади Слепая улица стыковалась с Разбойной щелью.
— Лам! — уверенно позвал я и вышел из укрытия.
— Да здесь я, — отозвался он, подходя. — Бочка тут, за углом.
— Твое дело сделано. А дальше уж я сам...
— Сам с усам... Пошли вместе. Если что, я тебя конвоирую.
Едва я выкатил бочку на оживленную улицу Временную или Временную, тут сейчас ничего нельзя было понять, как он заорал на меня вполне натурально:
— А ну, пошевеливайся, дохлятина! Вперед и жива-а!.
Нам предстояло пересечь метров двести открытого пространства перед строящимся на площади зданием. Мало кто обращал на нас внимание. Катить бочку было нелегко, но я терпел, кроя про себя орбитуралов, виртуалов, фундаменталов, а заодно и капралов. Пот начал заливать глаза.
И вдруг все разом стихло. Мы невольно оглянулись. Города не было! Как тогда, ночью, когда он спас Прова, брови Рябого озадаченно полезли на лоб, рука мгновенно достала пистолет.
— Ты что-нибудь понимаешь? — спросил он оборачиваясь.
— Шуточки без-образного, наверное.
Тут со стороны стройки, а она оказалась на месте, показался Гераклит Эфесский с надгробной плитой на спине, намного тяжелее моей бочки, спросил:
— Мар, сын гдомский, на кого ты катишь бочку?