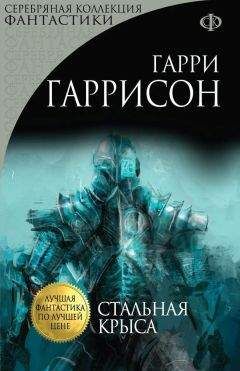Сергей Голосовский - Идущий к свету
— Одну минуточку! Только вот приму, значит, это, как прописали, по часам. В мои годы пора уже о здоровье заботиться. Так-с, как тут написано: «…развести одну мерную ложечку двумястами граммами в общем стаканом молока или сока». Где ж я тут соку-то возьму. А? — но через секунду он с детским восторгом выхватил из фанерного шкафчика початую бутылку вина «Анапа крепкое» и вылил остатки мерзкой жидкости в граненый стакан, куда перед этим насыпал гербалайфского порошка.
Повернувшись к Саше, проводник ласково подмигнул ей красным водянистым глазом.
— Вино, оно ить тоже сок! — с этими словами он быстро перемешал мутную взвесь чайной ложечкой и опрокинул в себя единым махом. Затем быстро ухватил ломоть хлеба со здоровенным шматом сала и, не пережевывая, давясь большими кусками, заглотил. Переведя дух, он назидательно изрек:
— Вот так-то вот три раза в день во время еды! Полезнейшая вещь, только забывать нельзя. Пропустишь одну еду, и все лечение насмарку. Ну давайте, милая, чайку налью, извините, что ждать пришлось, дело мое стариковское: сам ехаю, а лечусь.
Толстое одышливое существо, источая неимоверный запах перегара, плавно покачиваясь в такт подергиванию вагона, прошло с Сашиными стаканами к титану, налило заварки, кипятку и приложило к тому горсть сахарных кубиков.
— Чаек-то он в поезде хорошо!
Проводник пересчитал полученную мелочь, отпустил Сашу со стаканами, а сам сел за столик, пододвинул к себе сало, масло, хлеб, поллитровку и захлопнул дверь: «Все, обед, обед, обед!». Он весело потер пухлые ладошки и продолжил свой диетический процесс.
Когда Саша вошла в купе, Павел Ильич просматривал разложенные на столе документы Андрюши, которые прихватил с собой, чтобы отдать документы родным, если удастся найти их в Москве. Саша прикрыла дверь и, поставив стаканы с горячим чаем на стол, уже собралась плюхнуться на свою полку, но вдруг замерла, увидев на столе раскрытый на страничке с фотографией Андрюшин паспорт.
— Это же Андрюшка! Откуда это у вас?! — Едва не опрокинув стаканы, она схватила паспорт со стола. Павел Ильич удивленно посмотрел на нее.
— А вы откуда его знаете?
— Как откуда? Я его сестра, двоюродная, я ездила его искать. И не нашла. Мне его одноклассник сказал, что вроде видел его в этом монастыре, если только не обознался, а я не нашла. Я высматривала… Словами у молчальников-то не спросишь, а записку мою они читать не стали. Видать, их там пэтэушницы совсем задолбали, и меня они за такую же приняли. А он там, да? Я должна вернуться, я срочно должна…
Павел Ильич отрицательно покачал головой, и у Саши похолодело внутри, когда глаза ее встретились с тяжелым и печальным взглядом спутника.
— Он вчера умер.
За окном раздался высокий и унылый гудок локомотива, мимо с лязгом понесся товарняк. Саша открыла было рот, чтобы что-то сказать, но грохот, наполнивший купе, не дал ей такой возможности, и она, рыдая, упала на свой диван. Несколько минут она заходилась плачем, уткнувшись в казенную поролоновую подушку, а Павел Ильич только молча смотрел на нее, опершись большим морщинистым лбом на стиснутые кулаки. Локти его упирались в стол, и весь он был неподвижен и печален. Ибессилие перед свершившимся горем делало его взгляд еще более гнетущим и тяжким.
— Как это случилось? Почему? Почему он там жил? — Саша выпалила свои вопросы и снова зашлась рыданиями.
Павел Ильич молчал.
— Почему вы молчите? Ответьте же!..
— Вы та самая двоюродная сестра, у которой он прожил полтора года перед тем, как…
— Да, да! У кого же еще, у него больше не было никого! Андрюшка мой, Господи…
— Вы знали, что он был болен?
— Я догадывалась, что он болен, но в душу к нему не лезла, думала, если это серьезно, сам-то скажет. Он тогда сбежал от матери. Я же ехала, чтобы отыскать его и сказать, что его мать умерла, а выходит, и он через три дня после нее… Ой, Андрюша… Он чах после того, как ушел от матери, болел все время, но я думала, что это обычные болячки, он вообще с детства слабенький. — Она села и, продолжая всхлипывать, пожала плечами.
— У него был СПИД — синдром иммунодефицита, ничего нельзя было сделать.
— У Андрюши СПИД?! Откуда? Он же не…
— Да нет, конечно, никаких отклонений типа наркомании или гомосексуализма у него не было.
— У него и женщин даже вроде не было.
— Не знаю точно, Саша, но гланды были однозначно.
— Не поняла.
— Ему гланды удаляли года четыре назад, а ночью после операции было сильное кровотечение, пришлось делать переливание крови. Тогда и занесли с донорской кровью.
— Он мне не говорил… Может, и сам не знал тогда? — Саша силилась подавить рыдания.
— Нет, знал. Просто он не хотел превращать жизнь своих родных в кошмар, поэтому, когда узнал, что заражен, то переехал от матери к вам, а когда стал болеть, то ушел и от вас. Я помогал как мог, доставал лекарства, но чем тут поможешь?! В больницу он не хотел ни за что. И очень боялся повредить вашей личной жизни.
— Вот чудак! Какая там личная жизнь! Я вообще ни о чем думать целый год не могла, кроме как о том, куда он делся и где его искать. Записку только какую-то стремную написал с извинениями и уехал.
— А мать?
— Что мать?! Он вам про нее рассказывал что-нибудь?
— Нет, никогда. Из тринадцати месяцев, что мы были знакомы, двенадцать он вообще молчал.
— Я даже не знаю, что вообще про его мать можно сказать. Это не женщина, а профсоюзный функционер. Она всю жизнь делала карьеру и при коммунистах, и при демократах так называемых.
— А отец? — Павел Ильич пододвинул к себе стакан с чаем.
— Я его почти не помню. Тихий был такой, приятный человек. Она в президиумах заседала, а он дома отсиживался, Андрюшку без памяти любил, но сам умер, когда тому еще и семи лет не было. А дальше стали появляться какие-то няни из деревни, старушки-родственницы… Я вообще не понимаю, как он таким хорошим вырос.
Саша, очевидно, терпеть не могла свою тетку, мать Андрея.
— Знаете, Павел Ильич, меня действительно всегда поражало, почему Андрюша получился таким хорошим. Помню, в университете наш профессор по педагогике процитировал какого-то выдающегося своего коллегу из прошлого, который сказал, что для того, чтобы воспитать ребенка мерзавцем, достаточно его баловать и не уделять ему внимания.
— Многие нечто в этом роде говорили, но вам цитировали, скорее всего, Песталоцци.
— Вот-вот! Наверняка Песталоцци… Так вот, у Андрюши всегда было все что угодно: игрушки, конфеты, деньги только мамы не было, да и вообще семьи.
— Так с кем я теперь должен встретиться в Москве и кому должен передать его вещи и документы?
— Кроме меня, у него никого больше нет. — Саша опять заплакала и потянулась к кучке документов, перемежающихся черно-белыми детскими фотографиями.
Попутчики молчали, а поезд проехал под московской кольцевой автодорогой и вскоре, замедляя ход, застучал по стыкам и стрелкам подъездных путей Ярославского вокзала.
— А как вы познакомились с Андрюшей? тихо спросила Саша.
— На обеде… В столовой для неимущих…
* * *Павел возвращался домой с прогулки. Он взял себе за правило бродить каждый вечер два-три часа по ближайшим окрестностям. Как ни странно, но чем успешнее продвигалась их миссия с Петром, тем меньше было дел у самого Павла.
Новообращенные, число которых с каждым днем множилось, легко и радостно общались с Симоном-Петром, чувствуя в нем человека, близкого им по происхождению и по образованию, вернее, по отсутствию последнего у простого галилейского рыбака. В Павле они ощущали чуждое для себя аристократическое начало, его логика и знания ничем не помогали им в постижении новой веры, напротив, вызывали смущение и беспокойство. Видя это, Павел перестал уже приходить на собрания и совместные моления; более того, он старался отсутствовать даже в собственном доме, когда наиболее приближенные ученики собирались у Петра послушать несчетное число раз повторяемые им рассказы об Учителе. Бесправные, измученные тяжкой работой люди завороженно, как малые дети любимую сказку, слушали одну и ту же историю про чудесное житие Господа Иисуса Христа. И во второй, и в пятый, и в десятый раз они все так же плакали и улыбались сквозь слезы, глядя на светлого старца, принесшего им Благую Весть о грядущем Царствии небесном.
Павел возвращался домой с прогулки. Солнце клонилось к закату, и Павел знал, что в это время Петр со своими гостями уйдет на тайное вечернее моление, а в доме останутся только темнокожая служанка и ее сводный брат Тимофей, очень смуглый, но все же не совсем чернокожий юноша, которого Павел выкупил у престарелой римской матроны, отчаявшейся приспособить его для своих плотских утех. Юноша переболел в младенчестве болезнью, которая сделала его совершенно непригодным для исполнения причудливых капризов дряхлеющей вдовы. И та, получив с Павла изрядную сумму денег, купила взамен Тимофея двух здоровенных и туповатых братьев-близнецов германцев, на коих возлагала большие сексуальные надежды. Впрочем, как позднее выяснилось, надежды эти также не оправдались: братья в своих эротических пристрастиях были крайне консервативны и в качестве достойных объектов воспринимали исключительно мелких копытных животных, среди стад которых в качестве подпасков и пастухов провели весь период полового созревания.