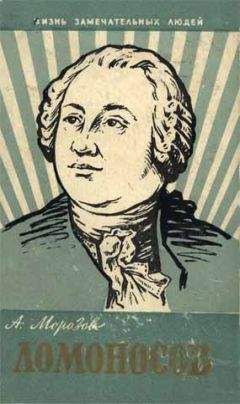Александр Морозов - Программист
Я люблю стихи Блока, но проникнуть за трагическую, застывшую маску мне не дано. Зато одну из тайн этой самоубийственной жизни я понял и принял сполна. Я знаю чувство, которое рождает тщательная спланированность. Дело не в том, что она увеличивает вероятность успеха. Это, конечно, так, но это не все. Блоку не надо было «делать себе имя», он не был ни литературным маклером, ни литературным негром, все это было ему вчуже, ему, после первого же сборника ставшему модным, известным, а после второго и третьего — великим русским портом. А все дело в том, что, кроме знании бездн, о котором он рассказывал в гениальных стихах, у него было и другое знание. Он чувствовал и понимал красоту упорядоченности, для него было очевидным, что тщательная спланированность прекрасна и сама по себе.
Это понимание было дано мне, что называется с младых ногтей. И наверное, именно за этой красотой (редчайшей, ибо редчайше кем понимаемой) и готовил и долгие годы свою экспедицию. Маршрут наконец определился; ансамбль из сорока томов Иохана Готфрида Гердера. Это неплохо. Это совсем неплохо, твержу я себе в задумчивости. А задумчивость и меланхолию рождает то, что мне так и не удалось завербовать с собой друга детства.
Себя же не прейдеши. Это я знал всегда, теперь же, похоже, двадцатилетние мои усилия дали мне опыт под названием «Другого же не прейдеши». Усилия, которые показали свою собственную иллюзорность. Приблизить другого, сделать его хоть немного таким, как ты… А как хотелось, господи, как хотелось.
Но, видно, мои объятия не назовешь железными. По крайней мере, для него. Он всегда ускользал из них, и даже без видимых усилий.
Геннадий и из армии пришел точно такой же. Хоть и досталось самое неподходящее для него — караул да кухня, а он и там, мне Лаврентьев рассказал, да и сам могу представить, и там был веселей и надежней многих. Внешне. Внутренне-то не был, я знаю, внутренне ему было тяжело. А Витя видел его совсем другим. Клюнул как раз на то, что ему подсовывали. Ему и всем остальным. Балагур, спортсмен, остряк — чуть не Василий Теркин. Он Теркина среди какой угодно публики может сыграть, но уж в армии-то… Ведь там, насколько мне известно от живых первоисточников, эту роль может сыграть только настоящий Теркин.
Значит, снова удалось. Неважно, какой ценой, ведь воистину сказано: победителей не судят. И вот он уже входит ко мне — специально не переоделся, домой не зашел — в длиннющей потертой шинели, в парадной фуражке, с новеньким чемоданчиком в одной и с замызганным вещевым мешком в другой руке. Все вразнобой, все неподогнанно, пряжка сбилась набок, но все это (все это плюс уверенный, погрубевший голос и уверенная улыбка) и означает: знай наших, мы все те же и не помышляем ни о чем, кроме первого приза.
И, значит, снова посрамлены до тошноты мудрые пескари, шипевшие вслед двум шалопаям (это в те, в баснословные года — Серебряный бор, волейбол, сосны, споры, «Девушки, а что вы делаете сегодня вечером?»): «Ужо погодите, в армии из вас людей сделают». И пусть уж их, премудрых пескарей, с их предсказаниями, но сделали бы из меня в армии человека (что бы ни понимали под этим «премудрые»), я так и не узнал, не будучи призван на действительную службу. Зато он узнал, и узнал то, что ни в какую другую разновидность гуманоида он не превратился. Не научили его — как страстно обещали и надеялись раздраженные пескари — уму-разуму, не показали кузькину мать, и даже жареный петух, видать, по каким-то причинам отказался его клевать.
Каким он ушел, таким же, отслужив честно и трудно (а это уж известно доподлинно), Геннадием Александровичем и явился, и даже не запылился. В переносном, конечно, в самом что ни на есть переносном смысле. А в прямом смысле все у него было по самым мужским, самым лихим воинским стандартам, ну просто римский легионер, небрежно отряхивающий со шлема, лат и наколенников пыль полумира. В общем, не подкачал, ни в единой реплике не провравшись, сыграл роль под названием «Ты очень, очень возмужал», так любимую бабушками и мамами, сестрами и племянницами.
И вот таким своим возвращением мне-то он не оставил ничего, кроме тактики выжидания. Авось, мол, день грядущий еще что-то и готовит. Я так его ничему и не научил. А он даже показал, что и не нуждается в моей науке. И показал самым исчерпывающим образом, не специально, а походя, нечаянно, как в длинном доказательстве скороговоркой упоминают очевидную и для лектора и для аудитории лемму. Пусть бы он презирал ее, мою науку, — не Гердера, нет, а науку жизни, — смеялся бы над ней, горлопанил — мало ли крикунов на час, бодряков на минуту. Они смеются вам в лицо, смеются так громко, что не замечают, что это даже не задевает. Глупость, то есть неумение предвидеть, написана на их юном, крикливо-антимещанском энтузиазме. Вы уже видите их недалеко впереди, после первой же передряги, удивленных, озабоченных, присмиревших, вот-вот готовых затянуть самое стандартное «спохватился, да поздно».
Но я его наблюдал не в одной передряге, и не короткий, по заказу безоблачный отрезок, а полных двадцать годичных кругов отмахал при мне этот друг, соглядатай, оппонент, наперстник юности веселой, как там его еще. Ученик, ни черта не желающий брать у учителя, ученик, притворяющийся учеником. Вот так фрукт.
Я сержусь, да, конечно, я прихожу в состояние запальчивости и раздражения, в состояние аффекта, или как там это еще называется (признаться, не силен в психиатрии), словом, я сразу впадаю в это состояние, как только веду эту борозду слишком далеко. Впадаю, даже зная наизусть все эти затасканные присказки про Юпитера, который сердится и именно поэтому не прав. Все это слишком плоско. И я не Юпитер, и мое состояние запальчивости и раздражения, состояние аффекта, или как там это еще называется, едва ли можно обозначить простым инфинитивом «сердиться».
Что же остается, кроме данных a priori? Кроме чувства? Остаются факты. Факты и воспоминания.
Когда он на втором курсе, «безумно увлекшись» математической логикой (впрочем, если он чем увлекался, то всегда только безумно), собрался переходить к структуралистам, разве не я сказал ему: «Эй, Гена, увлекайся чем или кем угодно, но зачем переходить на отделение, где нет военной кафедры? Или ты думаешь, что наибольшую пользу обществу, окончив университет, ты принесешь, драя казармы?» Но он безумно увлекся математической Логикой. Он был глубочайше убежден, что имеет право в любой момент не только безумно увлечься, но и преспокойно последовать за своим увлечением, куда бы оно его ни вело. Подумаешь, надо доодавать несовпадающие предметы за два года, подумаешь, нет военной кафедры, мы, мол, и сами с усами, а главное, это чтобы нам с удобством изучать то, чем мы изволили безумно увлечься, то есть в данном случае математическую логику.
Ладно, Комолов не научил — время поправит. Так ведь вот что смешно, Комолов не научил — это так, к этому Комолов, допустим, уже привык (нет, не привык, конечно, и никогда, наверное, уже не привыкнет. Нельзя флиртовать с первой доблестью мыслителя: смирением перед фактом. Доблесть совместима только с серьезным к себе отношением), так ведь и время ничего не поправило. Все сбылось, как я говорил, но ведь и он ни разу при этом не пожалел. Несовпадающие предметы сдал, математической логикой, сколько его душа желала, упился, в армию призвали — солдатом обернулся, и, наконец, без всяких там «кабы знать, кабы ведать», а все тем же, можно сказать, образцовым, можно сказать, махровым Геннадием Александровичем явился. Прилетел на милый порог. Ну и на том спасибо.
Дисциплина, справедливая постепенность, уважение хотя бы к собственным, тобою же признанным ценностям, а ничего этого ему не надо. Когда интересно, когда я об этом токую перед ним — вот он уже и ученик, вот уже и воодушевлен, и согласен во всем. А проходит «безумное увлечение» моим токонаньем, и «на челе его высоком не отразилось ничего». Вот уже н снова «табуля раса». Полное отсутствие внутреннего накопления, внутренней структуры, партизанщина н авантюризм, как в шестнадцать лет. Но при этом, как нн странно, все те же способности и напор, именно те же, как в шестнадцать, и варварски разрабатываемый (как карьер, где берут только самую богатую руду, а все остальное — в отвалы), но все без признаков износа, все тот же гибкий я реактивный аппарат мозга.
Дисциплина… Однажды я преподал ему урок дисциплины. Как-то допоздна засиделись вдвоем у меня за преферансом. Играли по полкопейки. У него и теперь-то деньги не держатся, а тогда (лет десять назад) и вовсе больше рубля-двух не имел. Долго играли с переменным, но под конец он все-таки остался на нуле. А мы еще вначале, чтобы не ограничивать заранее время игры, но и не сидеть до утра, условились, что в этом случае игра прекращается. Он стал меня уговаривать сыграть еще. Я, как и договаривались, наотрез отказался играть без ставки или в долг. Тогда он, уже здорово возбужденный, кинулся к вешалке. «Вот, смотри, — закричал он, — видишь, у меня новая шапка. Мне ее только сегодня мама подарила. Не знаю, сколько она стоит, но это неважно. Оценим ее условно в пять рублей. Будем играть, как будто у меня свободная пятерка. Ты будешь расплачиваться наличными, а я записью. Проиграю пятерку — шапка твоя, и игра кончена. Идет?» — «На улице мороз, — сказал я, — и без шапки ты не дойдешь домой. Что же ты будешь играть на вещь, которую все равно не сможешь отдать?» — «А зачем мне отдавать? — последовали слова, которые я и предчувствовал. — Ты сначала выиграй. Или боишься? А может, я дороже оценил? Может, ты считаешь, что такая шапка и «пары рябчиков» не потянет?»