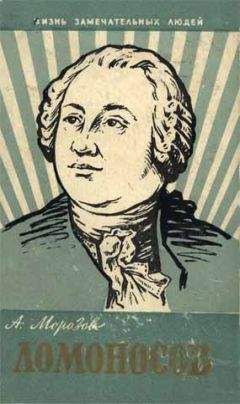Александр Морозов - Программист
Дисциплина… Однажды я преподал ему урок дисциплины. Как-то допоздна засиделись вдвоем у меня за преферансом. Играли по полкопейки. У него и теперь-то деньги не держатся, а тогда (лет десять назад) и вовсе больше рубля-двух не имел. Долго играли с переменным, но под конец он все-таки остался на нуле. А мы еще вначале, чтобы не ограничивать заранее время игры, но и не сидеть до утра, условились, что в этом случае игра прекращается. Он стал меня уговаривать сыграть еще. Я, как и договаривались, наотрез отказался играть без ставки или в долг. Тогда он, уже здорово возбужденный, кинулся к вешалке. «Вот, смотри, — закричал он, — видишь, у меня новая шапка. Мне ее только сегодня мама подарила. Не знаю, сколько она стоит, но это неважно. Оценим ее условно в пять рублей. Будем играть, как будто у меня свободная пятерка. Ты будешь расплачиваться наличными, а я записью. Проиграю пятерку — шапка твоя, и игра кончена. Идет?» — «На улице мороз, — сказал я, — и без шапки ты не дойдешь домой. Что же ты будешь играть на вещь, которую все равно не сможешь отдать?» — «А зачем мне отдавать? — последовали слова, которые я и предчувствовал. — Ты сначала выиграй. Или боишься? А может, я дороже оценил? Может, ты считаешь, что такая шапка и «пары рябчиков» не потянет?»
Все было рассчитано и одновременно спонтанно. Он любит и умеет импровизировать. В меру истерично и в меру оскорбительно для меня. В ход пошло все, лишь бы я согласился. Мне не хотелось играть и, конечно же, совершенно ни к чему была его шапка. Но я видел, что он уже в таком состоянии, что будет часами спорить и придумывать самые дикие варианты. И, конечно же, немного задели его слова о цене за шапку. Она, ясно, стоила больше пятерки. Немного задели, вызвали раздражение… Впрочем, на то были и рассчитаны.
Короче, мы сели играть, и в короткий срок я выиграл у него все пять рублей. Он поднялся и стал прощаться. Я молча наблюдал. Он надел пальто, взял в руки шапку и как бы между прочим бросил: «Пятерик за мной. Идет?» — «Ты играл на шапку», — ответил я. — «Ты что, серьезно?» — спросил он. Я продолжал почти механически (как будто кто подталкивал) и, уже не зная, где остановиться, ответил: «А это ты уж сам решай, как ты свое слово ставишь, серьезно или так. Условия были твои. Я играть не хотел. Кажется, все ясно?» Он с полубрезгливым, полутрагическим выражением лица швырнул шапку через всю комнату, повернулся и выбежал, разумеется, хлопнув дверью. И разумеется, я тут же выскочил за ним, и догонял его, и совал ему шапку в руки, пока он наконец не выхватил ее у меня из рук и не швырнул далеко в сторону моего дома. Идти за ним дальше было бессмысленно.
В тот раз он проиграл. (Хотя сам наверняка считал наоборот. Считал себя победителем, заставившим меня вести себя неблагородно.) Но понял ли он через этот проигрыш идею дисциплины? Как можно понять то, что тебе не нужно? Хотя и из такого невыученного урока он все-таки сумел извлечь пользу. После того случая он зарекся играть в какие бы то ни было игры под интерес. И хоть он давал множество самых разнообразных, часто самых фантастических зароков, и держался их обычно несколько дней, максимум недель, на этот раз слово почему-то оказалось нерушимым. Но имело ли это отношение к идее дисциплины? Ни малейшего.
И когда он пришел ко мне с рассказом о своих начальничках и внешне был все тот же ироничный и несмущенный, но почему-то непонятно нервничал, я сразу понял, что в этом случае Гена банка не сорвет. Не тот случай. То есть как раз тот, тот единственный, когда никакими аргументами и никакими способностями не возьмешь, когда надо или снизойти до возни иди отойти в сторону.
Ортега-и-Гассет очень точно выразил эту позицию. Он не был нерешителен, этот блестящий испанский интеллектуал, он сделал свою ставку, и никаких сожалений о мире действия не чувствуется в его словах: как прекрасно предоставить идти вперед генералам, промышленникам, политикам и время от времени бросать им вслед отточенные, зрелые мысли. Ортега сделал все, что только может сделать философ. Он не только полностью, исчерпывающим образом проанализировал ситуацию, он еще без тени смущения, без так излюбленных романтиками, а на деле бесплодных и обессиливающих колебаний сделал свой выбор. Он не жалел о другой стороне Зазеркалья. Настоящий мыслитель вообще не может жалеть о чем-либо, чем он не обладает. Он слишком ясно видит барьеры логики, которые усмиряют, формуют сумятицу бытия, он ясно видит факты и понимает, что их не обойти. Он обладает первой доблестью мыслителя: смирением перед фактом. Смирением, которое не имеет, конечно, ничего общего с идолопоклонством. Факт можно раздробить, как дробят кувалдой самую твердую породу, его можно раздробить, закопать или даже вывернуть наизнанку. При наличии известных способностей с ним можно сделать многое. Нельзя же (для мыслителя недопустимо) только одного: факт нельзя игнорировать.
Геннадию Александровичу далеко, конечно, до исчерпывающего анализа Ортеги. Далеко ему и до четкого выбора. И более того, в глубине души он вообще не считает для себя выбор обязательным. Его слишком удачливая натура бессознательно верит, что его-то не припрут к стенке, что уж ему-то удастся сохранить полубожественную свободу денди и при этом делать реальное дело. Старое заблуждение всех, слишком удачливых и не любящих строгого анализа. Иллюзия о тяжких (а значит, славных) трудах, которые можно совершать, не снимая белых перчаток.
Практик, сохраняющий элегантность созерцателя. Прекрасный, прекрасный мираж, не спорю. Но прекрасный друг моего детства (соавтор, редактор и издатель тех самых баснословных годов), кажется, уже разглядывает сквозь прекрасный мираж, что он, совсем как в сказке, шел-шел и дошел, уперся в барьер, на котором прямо так и написано: выбор. Полубожественная свобода денди и заметная роль в эпоху «большой науки» — две вещи несовместные, не правда ль?
И объяснять ему это, наверное, особенно подробно не стоит. Сам очень скоро раскусит, что висит над ним «или — или». Или снизойти до возни, или отойти в сторону. Снизойти до возни он не может. Не хочет, не умеет, а потому и не может. Нет у него подходящих инструментов для этого, хоть и обширен арсенал. Мужички, видать, попались крепкие, и дело у него обстоит куда хуже, чем он, полусмеясь, мне рассказывал. Этак, чуть ли не в третьих лицах, чуть ла это его и не касается. А как же, Геннадий Александрович только так и привык. С перекошенным лицом не хаживал, это уж что верно, то верно.
Испытал ли я злорадство? Да нет, при чем здесь это? Соавтор, редактор и издатель тех самых баснословных годов Николая Львовича Комолова. При чем же здесь злорадство? Пожалуй, даже так: чем больше я об этом думаю, вернее, каждый раз, как я только принимаюсь об этом думать, так сразу, без всяких доказательств, яснее ясного видно, что он самый близкий человек для меня. Он знает все мои истории, которые, до окончания нами школы почти все были и его историями, он знает, что и когда я читал, кому звонил, и чем это кончалось или как продолжалось. А наверное, это очень надо, чтобы кто-то знал твои истории, твои книги, твое тайное и твое явное. Он часто раздражал меня, и почти всегда я чувствую в его присутствии напряженность; Но стоит проделать простой мысленный эксперимент, стоит представить, что его нет, совсем нет, ушел и никогда не вернется, — и я ощущаю себя резиновой фигуркой, из которой выпущен воздух, что меня ограбили, унесли и развеяли то, что держит меня изнутри, и оставили скучного дядю средних лет, аспиранта немыслимых наук.
«Командовать парадом буду я», — сказал я двадцать дет назад. И что же? Никто, правда, и не мешает мне командовать парадом, но может ли это наполнить душу восторгом или даже просто соответствующей случаю торжественностью, если в параде принимает участие только сам командующий. Так вот откуда бесчисленные жалобы о слишком быстро промелькнувшей юности бесчисленных лириков всех времен и народов; жалобы, сожаления, которые, признаться, частенько казались мне напыщенными, надрывными напоказ, написанными просто потому, что так принято.
Но теперь, когда это случилось со мной, я понял наконец общую основу всех этих стенаний, гениальных или безвкусных — неважно. Прощание с молодостью — это не поредевшие волосы или выпавшие зубы, или, как говорил Паниковский, «меня девушки не любят». Ничего этого нет еще и в помине. А есть уже совершенно неоспоримое ощущение колоссальной массивности внешнего мира, который вовсе не торопится идти за тобой в твои походы и экспедиции, который неспеша ждет, пока ты поймешь, что это тебе жить в нем, а не ему становиться во фрунт и соответствовать твоим блистательным и неотразимо-логичным теориям. Все это ощущение и есть прощание с молодостью. Прощание с упоительной, почти сновиденческой легкостью, с которой все вокруг подается, увлекается за тобой в веселом вихре, и конца этому полету будто бы и не предвидится. Но ты вырастаешь, податливость превращается почему-то в упругость, а то и в режущую, гранитную твердость, и веселый вихрь, который ты увлекаешь за собой, оказывается просто вспененной пустотой. Вихрь, в котором не летит, кувыркаясь и радостно простирая к тебе руки, даже единственный друг детства. Нет, злорадства я не испытал.