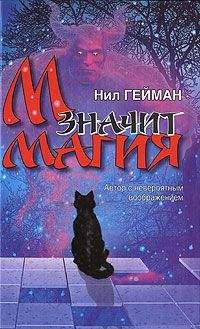Нил Гейман - Все новые сказки
Единственная опера, которая добралась до сцены, была «Кардинал Перелли» по мотивам Фербенка[117]. Рексу нравилось нападать на католицизм, хотя мало кто из нас придавал этому какое-то значение.
Приблизившись к шестидесятилетнему рубежу, мы стали по-настоящему болеть. И это оказались истинные страдания — в противовес выдуманным страстям и переживаниям. У Рекса нашли диабет и артрит. Чик был первым из нашей компании, у кого диагностировали рак — думаю, это был кишечник или прямая кишка, он не хотел об этом говорить. И даже Рекс не предал его на этот раз. Операция, казалось, помогла — болезнь вроде отступила.
Мы слышали, что Дженни пережила инсульт. К тому времени она уже давно не общалась ни с кем из старых знакомых. Кажется, ей тоже делали операцию — не знаю, какую. Рекс не любил говорить о годах, когда встречался с ней, а теперь мы стали близки как никогда, тем более что жили по соседству — на северных холмах.
Гарри, разумеется, так и жил в Ирландии.
Билли Аллард переехал на Корфу, когда дети выросли и покинули отчий дом.
Пита так и не нашли, и он все так же числился среди мертвых.
Пегги Зорен вернулась в Нью-Йорк и очень преуспевала.
Корниши уехали к Кирби Лонсдейлу.
Мне сделали операцию — удаляли грыжу, но все пошло не так, артерию сшили неверно, в результате нарушилось кровообращение в ноге. Я практически не мог ходить и подниматься по лестнице.
Рекс усугублял свой диабет пьянством, Чик безуспешно пытался его контролировать.
В 2005-м, когда мы с Лу были в Париже, я получил от Рекса электронное письмо, что само по себе было из ряда вон выходящим событием, ибо Рекс ненавидел электронную почту. В письме сообщалось, что Чик снова в госпитале. Я сразу позвонил в госпиталь.
— Да, — сказал Чик, — пошли метастазы. Мне осталось несколько дней.
Мы тут же вылетели домой и примчались к нему в больницу. Чик ужасно похудел и был смертельно бледен, но Рекс упорно делал вид, что все в порядке.
Чика консультировали ведущие специалисты.
Он за это время начал писать рассказ под названием «На острие ножа» и показал его нам — очень мистический и сардонический рассказ.
Чик очень сокрушался о друзьях, которые не находят времени навестить его или хотя бы позвонить.
— Хоть бы послали открытку с изображением кровавого призрака и букет долбаных цветов, — повторил Рекс несколько раз.
Я старался сделать так, чтобы этот визит в больницу был по-настоящему дружеским.
Очень у немногих это получалось.
Думаю, люди просто боятся нарушить свой душевный покой.
Мы отпускали наши обычные шуточки, восхищались храбростью и стойкостью Чика. Он счел это забавным:
— Вы так говорите просто потому, что не хотите чувствовать себя неловко… Легко быть храбрым, когда общее внимание сосредоточено на тебе.
Улыбочку он мог бы сделать и поприятнее — усмехался потом, вспоминая этот момент, Рекс.
Чик попросил, чтобы ему больше не посылали цветов, — их запах слишком напоминал о похоронах. Я вспомнил, что то же самое говорила моя мать.
Рекс все не хотел верить в очевидное и находился в невероятном напряжении. Кто поставит ему это в вину? Его ответы стали односложными — может, потому, что он боялся закричать, может, потому, что не хотел лишних напоминаний о неизбежном. Партнер, с которым он прожил более сорока лет, говорил более свободно и спокойно. У него оставалось слишком мало времени. Ему была сделана операция по восстановлению функций кишечника, но после выписки из больницы Чик провел дома всего несколько дней и снова оказался на больничной койке. Ему предложили новую операцию — но он отказался: он хотел умереть, сохранив хотя бы какую-то видимость достоинства. В течение последних лет он обратился к Богу и теперь считал себя готовым уйти.
Я спросил его, боится ли он.
— В некотором смысле, — ответил Чик, — это похоже на то, будто меня ждет ответственное собеседование.
Все, что ему было сейчас нужно, — мое обещание, что я не оставлю Рекса, буду проверять, оплатил ли он счета, помогать ему с ремонтом и прочими бытовыми мелочами.
— Я знаю, это тяжело. Но ты его самый лучший друг.
Это был своего рода шантаж, но я спокойно отреагировал на него, тем более что скорее всего то же самое он сказал и остальным.
— Ему нельзя пить. Он совсем запустит дом, если его не заставлять им заниматься. Ипотека все еще не выплачена до конца. Следи за бассейном. Пусть он даст тебе запасной ключ. Да, в доме есть оружие — пожалуйста, вынь из него патроны, ты же знаешь, каким он может вообразить себя королем драмы…
В следующий раз, когда мы его навещали, он вручил мне исписанный аккуратным мелким почерком листок: где какие замки, что и когда нужно поливать, имена и телефонные номера водопроводчика, самого надежного электрика, поставщика газа и прочие важные мелочи. Вся их жизнь как на ладони — изнутри, как она есть.
Мы с Лу обещали сделать все, что в наших силах.
— Что бы ни говорил Рекс?
Мы обещали.
— Что бы он ни сказал вам. Или что бы я ни сказал.
Это слегка озадачило нас, но мы все же подтвердили обещание.
Получив его, Чик выдохнул — будто задерживал дыхание в ожидании ответа.
— Вы ведь знаете, что он сделал с Дженни, да?
— Мы не хотим этого знать, — Лу ответила быстрее, чем я успел кивнуть или задать вопрос, будто знала, что он хочет сказать, и не хотела, чтобы я это слышал.
— Ну что же, — Чик откинулся на подушки. — Может, так и лучше.
Домой мы с Лу возвращались в абсолютном молчании.
Чик умер через несколько дней.
Был конец августа, многие были в отпусках и не успевали на похороны. Рекс, конечно, был в бешенстве, он считал, что раз старенький отец Чика смог добраться и присутствовать на похоронах, то уж как-то можно было бы… Я поехал к нему, чтобы не оставлять его одного.
Рекс был растерян, подавлен, разрушен. Он нашел дневники Чика — к сожалению, раньше, чем смогли найти их мы.
— Я никогда не понимал его. Я никогда его не слушал. Я не думал о нем и не представлял себе, что он был так несчастен, — не мог успокоиться Рекс.
Я пытался поддержать его, говорил, что люди обычно ведут дневник в те моменты, когда тяжело на душе, а когда все в порядке и они счастливы, про дневник чаще всего просто забывают… Но он не хотел утешений.
Он подвел Чика.
Чик был несчастен.
Это все, что он мог сказать.
И снова пил.
Рекс следил за ходом похорон, он настаивал, чтобы мы соблюдали «полный траур» — это означало черные шляпки и вуали для женщин и черные повязки и галстуки для мужчин. На кладбище Гресмера, где Чик хотел быть похороненным, нас было всего семь человек. Рекс прятал свое горе под привычной и знакомой нам маской надменности. Лу организовала поминки — все очень просто, как хотел Рекс. И Чик тоже этого хотел. После того как все улеглись спать, Рекс обзвонил тех, кто не приехал на похороны. Если трубку не снимали — он наговаривал на автоответчик, сколько хватало пленки, а если не успевал договорить — звонил снова и снова говорил. Это не были его обычные смешные и причудливые истории. Нет, он сообщал тем, кто был на том конце провода, что он и Чик всегда говорили за их спинами: о недостатке таланта, об их уродливом ребенке, об их непомерном эгоизме, несъедобной еде, отсутствии вкуса… Когда Рекс страдал — он всем причинял боль. На следующий день он сам рассказал мне о том, что сделал, и я не видел в его глазах раскаяния.
Некоторые из наших общих знакомых потом мне позвонили. Многие плакали. Почти все пытались найти ему оправдание. Кое-кто хотел знать, правда ли то, что он говорил.
Моя дочь Кесс прослушала сообщение, которое он оставил для Хелен, и была возмущена тем, что услышала, — когда звонила мне, она не могла спокойно говорить. Но все же она была более готова простить его, чем я.
Примерно неделю спустя Лу уехала навестить свою мать, которая была ипохондриком, а я решил воспользоваться моментом и отправился посмотреть, что поделывает Рекс.
Рекс был в запое.
— Я рад, что ты приехал, — сказал он. — Мне нужно рассказать тебе об одной услуге, которую я оказал тебе несколько лет назад.
Я приготовил обед, и после обеда он рассказал, что он сделал.
Он говорил, что уверен — мне это понравится.
Не знаю, кого он теперь пытался дразнить.
Задыхаясь и вскрикивая от боли, которую причинял ему артрит, он разжег камин и налил коньяку.
Рассказывал он с той мягкой, тягучей интонацией, с которой обычно читал свои рассказы.
Это был рассказ о мести — со всеми подробностями и деталями, которыми он бы непременно восхищался в произведениях Бальзака.
Оказывается, вскоре после того как мы с Дженни развелись (он считал ее виноватой — в том, что она соблазнила его и склонила к сексу втроем, и в том, что он причинил боль Чику), он стал ее исповедником и ближайшим другом. Он подкидывал ей идеи для новых сексуальных приключений, часто сам знакомил ее с подходящими людьми, помогая ей составлять так называемый «список сорока самых известных извращенцев». Иногда он сопровождал ее на вечеринки и обеды, провоцируя на такие рискованные поступки, на которые она сама никогда бы не решилась.