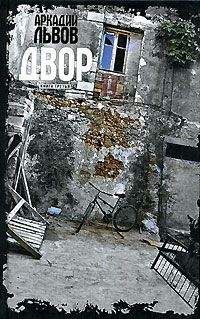Альфина - «Пёсий двор», собачий холод. Том III (СИ)
— Я тебе не мамка и не нянька, но мне гадко смотреть. Ты для кого выделываешься?
— Да о чём ты?
— Шут гороховый, — сердито бросил Коленвал и зашагал вперёд.
Хикеракли однако же вслед за ним не поспешил — снова ему потребовалось поскрести, теперь уж затылок. И что в нём, скажите на милость, не так? Что неправильно? Или он всегда с таким лицом ходить должен, будто весь этот город ему одному на попечение выдали?
Э, нет, брат, не обманешь. Хикеракли всё теперь понял. Он, брат, тоже не мамка и не нянька. Он человек свой собственный, а не общественный, будто тавр какой. Как-то до его рождения люди своим умом обходились, чай и дальше не перемрут-с.
А Хикеракли в «Пёсий двор» хочет, и проснулся он сегодня свеженьким, аки самый настоящий толстопузый огурчик.
— Это он просто завидует, я так думаю, — неуверенно предположил Драмин. — Ну, что ты умеешь отдыхать. Коленвал-то не виноват, что рабом труда уродился.
— Завидует? — Хикеракли притопнул ногой и, не скрываясь, гаркнул Коленвалу в спину: — Я и без тебя напиться могу, уж справлюсь!
— Всего наилучшего, — не обернулся Коленвал.
И ушёл.
Ну конечно, ничему он не завидовал. Завидовать безалаберности? Тут по-драмински наивным надо быть, чтоб такую каверзу в душе Коленваловой увидеть. Не завидовал он, а заботился. Переживал — уж как умел.
Так и что с этого Хикеракли-то? Не пять лет мальчику — ежели к двадцати годам так и не обучился светлые свои чувства по-людски выговаривать, его на то воля, не хикераклиевская. Пусть себе выкапывает динамики вместо доброй кружки пива. И это Хикеракли не из обиды так думал, у него на душе, наоборот, спокойно было и ясно.
Выросли мы уже из мамок да нянек, братцы, кончай потеху.
— Он вернётся, — Драмин всё так же неловко перемялся, — ты же сам знаешь, мы ещё в «Пёсьем дворе» будем, а он уже сыщет предлог зайти. Коля просто вспыльчивый.
— А мне всё равно, — Хикеракли жестом предложил продолжить путь, а внутренне поразился вдруг тому, как правдиво слова его звучали. — Ежели хочет — пусть возвращается, а нет… Какое моё дело?
— Брось. Тебе всегда и до всех есть дело.
Хикеракли равнодушно пожал плечами.
День склонился уж за полдень, а в два обещали на площади перед Городским советом поведать обо всех славных петербержских подвигах — торжественно, с помпами и конфеттями. Возле Академии по сему поводу творилось необычайное оживление: лектор Гербамотов — вот уж человек склада непубличного! — выбрался на самые ступени и там со студентами что-то горячечно обсуждал. Белые орхидеи, коими зарисованы были уже все углы вокруг, сегодня старательно подновили, расчистив по такому поводу снег. Золотых флагов не напаслись, так что обойтись решили жёлтыми.
Пиршество, истинное пиршество в городе водворилось.
Пиршество же лично Хикеракли драматически оборвалось, стоило ему только потянуть на себя кабацкую дверь. Он ещё на владельца сего славного заведения посмотреть не успел, как в голову ему вошла мысль довольно поганенькая.
В «Пёсьем-то дворе» до сих пор томился напоенный и пленённый граф Метелин.
Хикеракли уж подумал было развернуться, но кабатчик на него немедленно навострился, будто только того и ждал. Кабатчик «Пёсьего двора» по всем студентам звался просто Федюнием, а из внешнего, так сказать, облика отличался в первую очередь вислыми чёрными усами да широкой плешью. Вместе они придавали ему вид несказанного уныния — в противовес, значится, юной да горячей весёлости окрестных кварталов. По характеру, впрочем, Федюний тоскливостью особой похвалиться не мог. Человек он был молчаливый, но быстрый и с соображением.
— Вы-то мне и нужны, господин Хикеракли, — немедленно воззвал Федюний, маняще кивая за свою кабацкую стойку. — Извольте на пару слов, сделайте милость.
Драмин ухватился за одну из девок с полным пониманием ситуации, так что Хикеракли некуда оказалось выкручиваться. За стойку он прошествовал с неохотой, однако немедленно похлопал Федюния по плечу.
— Спокойно, Федюша, не серчай. Ведь спокойно? Не застрелилось там пока его сиятельство?
— Не застрелилось… — Федюний скрипнул в руках пивной кружкой с самым жутким видом. — Так он что, ещё и при оружии?
— Ежели не выкинул. Помнится, давал я ему револьверчик… — оценив бешенство во взоре кабатчика, Хикеракли поспешил его успокоить: — Да чего ты так расстраиваешься! Граф Метелин человек честный, а теперь ещё и смирный. Вырос, нагулялся. Он не стал бы ни за что в людей безвинных стрелять.
Федюний помолчал чуток, закусывая усом то, чего вслух говорить поостерёгся.
— Послушайте, господин… Хикеракли, — выговорил он наконец, — я таких услуг, как вы заказали, не предоставляю. Держать человека, как в тюрьме? У меня здесь всякое бывает — случаются и буйные клиенты, которых успокоить надо, и клиенты деликатные. Но ведь четыре дня вас ждём! Его кормить надо, поить надо, горшок ему выносить надо. Хвала лешему, удалось сойтись. А теперь вы говорите, что он при оружии всё это время сидел!
— Ну что тебе теперь, медаль личную отчеканить? — рявкнул Хикеракли. — Это была услуга политической важности. Или денег надо?
— За содержание вы заплатили. — Федюний отставил кружку и залез руками куда-то в недра стойки. — Просто заберите графа Метелина и не просите меня больше о таких услугах.
— Могу и попросить, — обиделся Хикеракли, — может и понадобиться.
— У вас свои камеры в казармах есть, — в стойке обнаружился куцый ворох бумажек. — А это вам от графа Метелина послания.
Послания были выведены со студенческой аккуратностью. Над каждой «б» и «д» вились прихотливые закорючки.
— Что ж ты мне их, подлец, не отправил?
— Куда, скажите на милость? В общежитие? Раньше вас обычно в «Пёсьем дворе» и искали. — Федюний вдруг взял плаксивый тон: — Разве вы мне отчитались, когда вас ждать? Захожу я с парой грузчиков наших, если понадобится успокоить, к графу Метелину. Он меня спрашивает: что происходит? Когда выпустят? Я ему — когда господин Хикеракли вернётся. А когда вернётся? Скоро, отвечаю. Так все эти дни и отвечаю — спасибо, он только письма решил писать, через окно не полез или в драку.
— Там каморка без окон, — напомнил Хикеракли, — и прекрати нытьё. Заберу я Сашку, заберу. А куда мне слать корреспонденцию, я тебе, остолопу, сообщаю: Братишкин переулок, дом одиннадцать. На лбу себе запиши.
В послания метелинские смотреть совершенно не хотелось — знал Хикеракли и так, что там увидит. Эту вот растерянность, сосредоточенные попытки понять, что стряслось, и немного страха. Да не такого страха, какого стоило бы, а страха самого себя. Вечно Метелин боялся, что он тут главный дурак, он не сообразил, он, может, из жизни как-то выпал или ещё чего. Нешто он и под залпы вражеские послания строчил, а не рвал, как говорится, когти всеми силами да неправдами? А ежели б снаряд в «Пёсий двор» прилетел, в самую его маковку, в каморку чердачную?
Дурак и есть. Немудрено, что Хикеракли о нём и вовсе забыл. Вот уж сколько — пять? — дней назад, значится, услышал все эти россказни про явление Резервной Армии, и тогда смекнул: негоже графу Метелину по улицам Петерберга бродить. Шинель на нём ненашенская, вести на языке — опасные; ежели сам чего не напортачит, так ему же кости пересчитают. Ещё и револьверчиком размахивал, про Твирина что-то бормотал.
Мог ведь и пристукнуть. Или Золотце мог бы — это уже, значится, позже. И кто б тогда команды в самый, как говорится, решительный момент раздавал? Ежели б Твирин холодненький лежал, а? Вот то-то и оно.
Нет, что Хикеракли Метелина запер — это он правильно, а Федюний простит. Запер — и бегом хэру Ройшу отчитался обо всём услышанном. Дальше, вестимо, были обсуждения, планы, взрывы, осада… вот Метелин из башки и вылетел. Не до метелиных в такие моменты.
Его сиятельство возлежало на койке, заткнутой в уголок крохотной скошенной комнатушки. Федюний не забыл выдать Хикеракли ключ, и, когда тот открыл дверь, из комнатушки препаршиво завоняло — не только нечистотами да немытым телом, но и перекисшим уже молоком. Видно, с момента залпов никто сюда зайти не решился. Оно и верно: прогрохотало знатно, арестант как пить дать с расспросами полезет, а чего ему ответишь?
При виде Хикеракли Метелин коротко, нервически подпрыгнул, но потом скривился и подниматься не стал. Ноги свои он на простыни закинул прямо в сапогах, а револьвер уж верно прятал под подушкой. Одна только шинель метелинская была аккуратно и даже трогательно подвешена на крючок возле двери.
Шинель, к слову, его сиятельство обстрогало знатно — обеденным ножом, не иначе. Обрезало погоны, отковыряло красные шевроны да канты, как уж сумело. Без знаков различия шинель превратилась в задрипанную кацавейку, но зато и не провоцировала желания сразу же засветить носителю в глаз, посчитав такового противником. Кое-где красные меты остались, но вопрос был изучен со всей солидностью, тут не поспоришь.