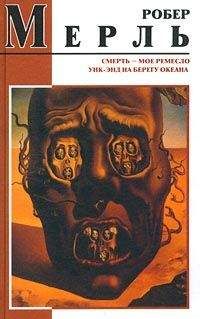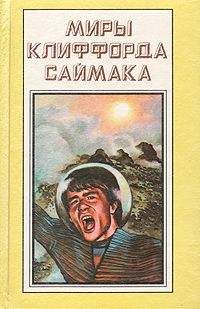Робер Мерль - Мадрапур
На моём чертеже хорошо видно, насколько необычно расположение кресел в первом классе, тогда как в туристическом классе оно остаётся традиционным. Проигрыш в количестве мест, проистекающий от такого размещения, очевиден; первый класс здесь заметно длиннее, чем, скажем, в самолётах типа «ДЦ-9», где, однако, имеется двенадцать мест, а здесь их всего шестнадцать при значительно большей площади салона. Этим и объясняется выпад Блаватского: «Французы сразу не имели понятия о рентабельности самолёта».
Но обвинение это, конечно, нелепо. В самом деле, ведь можно вполне допустить, что внутренняя планировка самолёта была выполнена по специальному заказу некоего главы государства, который желал проводить во время перелётов совещания со своими сотрудниками. Если принять эту гипотезу, самолёт впоследствии могла перекупить компания чартерных перевозок, не захотевшая брать на себя расходы по его переделке.
Но лично меня поражает другое. Меня гораздо сильнее смущает пустота туристического класса, не говоря уже о полнейшем безлюдье, которое я обнаружил в Руасси-ан-Франс, об исчезновении в лифте аэропорта моих чемоданов, об инструкциях, полученных бортпроводницей касательно паспортов и наличных денег, и об инциденте – который так ничем и не кончился – с урезанным объявлением бортпроводницы.
Я принимаю мудрое решение: я говорю себе, что во время предстоящих пятнадцати часов полёта не стану больше пережёвывать свои неприятности и поддаваться страхам, которые, возможно, ни на чём не основаны, и не позволю своему беспокойному характеру портить мне путешествие. Я удобно устраиваюсь в кресле и, полузакрыв глаза, стараюсь отвлечься. Я разглядываю своих попутчиков. Это довольно легко сделать, поскольку благодаря своеобразной планировке салона мне видно их всех.
И вот забавное открытие: оказывается, порядок, в каком разместились пассажиры, во многом основан на разделении по признаку пола. В правом полукруге сидят, за исключением спутницы индуса, только мужчины – среднего возраста бизнесмены и государственные чиновники высокого ранга. В левой же половине круга расположились женщины, если не считать Мандзони, который, по всей видимости, их очень любит, и Робби, который любит их меньше, но который последовал за Мандзони. Мужчины и женщины, сидящие в этом полукруге, принадлежат, судя по одежде и манерам, к категории богатых туристов.
Поглощённый столкновением Блаватского и Карамана, я поначалу не заметил, что в левом полукруге тоже бушуют подспудные бури, правда, несколько иного свойства, однако не менее сильные, нежели те, что только что вырвались на поверхность в правом полукруге.
Ибо я замечаю там прямо-таки чехарду страстей. На миссис Банистер, ту из двух наших viudas, что не отреклась от радостей грешного мира, производит неотразимое впечатление красавец Мандзони, от которого она, к сожалению, отделена сидящим между ними Робби. А Робби, как я уже говорил, питает, так же как и его соседка справа, явную склонность к своему соседу слева, но, несмотря на то что его позиция для ухаживания за Мандзони в тактическом отношении более удобна, сколько-нибудь заметных успехов она ему пока не приносит. Что до самого Мандзони, его, во всяком случае в данный момент, более привлекает прелесть недозрелого плода, и он полностью сосредоточен на юной Мишу. Она же, не убирая со лба прядь волос, свисающую ей на глаза, углубилась в чтение полицейского романа и не обращает на итальянца никакого внимания. Мишу – тот тупиковый, если можно так выразиться, буфер, в который упирается весь этот поезд влечений.
Поскольку Мандзони глядит на Мишу, я тоже гляжу на неё. Это всё-таки лучше, чем опять вспоминать про свои чемоданы или напрягать слух, стараясь уловить шум двигателей.
Мне она тоже нравится, эта Мишу, хотя она и лишена того, что обычно меня привлекает в других женщинах,– ни бюста, ни бёдер, ни ягодиц; плоский перед и тощий зад. И, несмотря на это, очаровательна. Тонкие черты в изящном овале и, вопреки развязным замашкам, наивные глаза. В XVIII веке, утопая в оборках и воланах, её красота казалась бы такой трогательной. В XX веке на ней пуловер и линялые джинсы. В этом наряде её можно принять за работницу какой-нибудь захудалой фабрички, вот только пуловер на ней – кашемировый. А если б я осмотрел её рот – но эту часть я уступаю Мандзони,– то обнаружил бы, что над зубами её трудился дорогой стоматолог.
– Мадемуазель,– говорит Мандзони sotto voce [3] по-французски, слегка пришепетывая,– извините меня, но мне бы хотелось задать вам один вопрос.
Мишу поворачивает голову и смотрит на него сквозь светло-каштановую прядь, свисающую ей на глаза.
– Задавайте,– отрывисто говорит она.
– Вы закончили роман, который читали, и тут же опять стали его читать. Вы весьма загадочная девушка.
– Никакой загадочности тут нет,– говорит Мишу.– Когда я дохожу до конца, я уже не помню начала.
После чего Мишу снова погружается в чтение. Не знаю, нарочно это было сделано или нет, но, принимая во внимание ситуацию, её реплика просто великолепна: Мандзони не знает теперь, говорит она с ним серьёзно или издевается над ним.
Через несколько секунд он решается издать вежливый короткий смешок.
– Но это, должно быть, ужасно неприятно, когда читаешь роман,– до такой степени не иметь памяти,– говорит он.
– Это верно,– не поднимая головы, ровным тоном отзывается Мишу.– У меня совершенно нет памяти.
Новый смешок Мандзони, на той же любезной и слегка насмешливой ноте.
– Да ведь это очень выгодно,– говорит он.– В конце концов вы могли бы всегда читать одну книгу.
– До этого ещё не дошло,– говорит Мишу тоном человека, который не собирается развивать свою мысль.
Первая атака отбита. Мандзони молчит. Но тем не менее он не падает духом. Мандзони знает, как важна настойчивость, когда обольщаешь девушку.
Я смотрю на него. Рослый, хорошо сложенный, лицо римского императора, глаза, какие принято именовать бархатными, и элегантность в одежде – нечто среднее между элегантностью Карамана и элегантностью Робби.
Караман невероятно корректен и весь в серых, тёмно-серых и чёрных тонах. Робби, тот позволяет себе целую симфонию пастельных тонов: светло-зелёные брюки и голубая рубашка; комбинация смелая, но немного холодная, чуть согретая оранжевым платком, повязанным вокруг гибкой шеи. Мандзони одет более традиционно, он в светлом, почти белом костюме, сиреневой сорочке и вязаном тёмно-синем галстуке. Менее эксцентрично, чем Робби, более артистично, чем Караман, и, по-моему, гораздо дороже. У Мандзони много денег, это очевидно, и я уверен, что он ни дня в своей жизни не работал ради куска хлеба, тогда как, поразмыслив, о Робби я бы этого не сказал.
В отношении Мандзони мне трудно быть объективным. Вы скажете, что при моей внешности у меня есть все основания не любить красивых мужчин.
Но здесь другая причина. В Мандзони мне отвратительно его донжуанское жёноненавистничество. Совершенно ясно, что, если ему удастся переспать с Мишу, он незамедлительно переключится на бортпроводницу, потом на миссис Банистер, ибо ему льстит её шик, затем на индуску. После чего, презирая их всех, он будет с нетерпением ждать прибытия в Мадрапур, чтобы заняться освоением местных богатств.
Подобная ненасытность, соединённая с презрением к слабому полу, заставляет меня предполагать, что, по существу, Мандзони мало чем отличается от Робби, хотя на первый взгляд может показаться, что он – полная его противоположность. Наверняка существует некая причина – может быть, неведомая ему самому,– по которой он терпит знаки внимания со стороны Робби, даже если подчёркнуто их отвергает. Он отвергает их, но не пытается их пресечь.
Первое открытое наступление Мандзони на Мишу вызывает многочисленные отклики в левой половине круга. Мадам Мюрзек, ещё больше пожелтев, фыркает носом, что является у неё, как мы уже знаем, привычным способом коротко выразить своё моральное неодобрение. Две viudas обмениваются тихими комментариями, и, судя по мимике миссис Банистер во время этого обмена, я заключаю, что реплики их, во всяком случае реплики миссис Банистер, не лишены яда. Мадам Эдмонд, соседка Мишу слева,– речь о ней ещё впереди – кажется весьма недовольной, и непонятно почему, ибо она не выглядит пуританкой. Что касается Робби, то к наступательным действиям, предпринимаемым Мандзони в отношении Мишу, он, по-видимому, относится снисходительно. Приняв в своём кресле грациозную позу, он переводит с одного лица на другое живые искрящиеся глаза и улыбается.
Забавно, он кажется не рослым, а долговязым. Его мужественность словно бы растворилась в удлинении всех его членов. Со своими бесконечными и вечно переплетёнными ногами и длинными тонкими кистями рук, венчающими мягко изогнутые запястья, он весь – будто утомлённый цветок на чересчур длинном стебле.
Можно было ожидать, что Мандзони, выдержав приличествующую случаю паузу, предпримет новые попытки завоевать Мишу, но атаку начинает не он, а сама Мишу, причём – и это уж совсем неожиданно – целью атаки оказывается Пако.