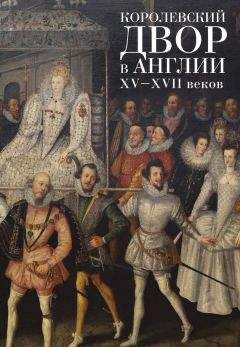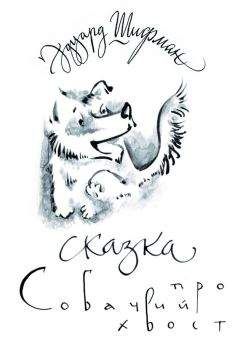Альфина - «Пёсий двор», собачий холод. Том II (СИ)
Когда они вышли в коридор, у графа начали подрагивать руки. Под любопытными взглядами солдат За’Бэй не мог себе позволить похлопать его по плечу, но хотя бы шепнул:
— Вы великолепно держались — они с потрохами купились на ваши байки о народном доверии.
Граф Набедренных повернулся к За’Бэю с такими потерянными глазами, что тот ни в жисть бы не поверил в давешнее хладнокровие, не будь он свидетелем разговора.
— Да какая в том польза, когда они не согласились отпустить…
— Ш-ш-ш! — пихнул его в бок За’Бэй. Всё-таки в двух шагах от двери не стоит болтать.
А из тьмы коридора уже вышагивал Гныщевич, «глава Союза Промышленников». Поравнявшись с графом и За’Бэем, он приостановился — понял, видимо, по выражению лиц, что той самой первостепенной цели граф Набедренных пока не достиг.
— К Твирину теперь, — быстро пояснил За’Бэй.
За’Бэй знал, что уж кого-кого, а Гныщевича-то первостепенная цель их визита в казармы не беспокоит вовсе, у него своих целей всегда полны карманы. И тем не менее, смерив графа скорым взглядом, тот заговорил преувеличенно бодрым голосом, который у Гныщевича обыкновенно означал радение.
— К Твирину? Très bien! Преинтереснейшая встреча вам предстоит, ваше сиятельство, — посиятельствовал он для виду, а потом тише добавил: — Мальчик-то на вас что только не молился, вы же прямо образец dolce vita! Вот и воспользуйтесь авторитетом, такие вещи без следа не проходят…
В дверях возник генерал-хозяйственник Стошев, и Гныщевич мгновенно вцепился в него, но графу неожиданный совет будто придал решимости. За’Бэй волей-неволей улыбнулся: граф Набедренных и Гныщевич в одной лодке не под всяким градусом привидятся, а поди ж ты. Граф Союз Промышленников генералам отрекомендовал, Гныщевич к переживаниям графа чуткость проявил — вот же сближают самых разных людей исторические события!
Тут подоспел солдат, которому велели сопроводить графа к Твирину, и возможности побеседовать иссякли вовсе. Покуда они шли вдоль нескончаемых кирпичных стен казарм, За’Бэй рассматривал трещинки и щербинки и размышлял о людях и исторических событиях.
За’Бэя, пожалуй, обижало, что ему пеняли время от времени на иностранное гражданство: мол, какая ему до росского налога на бездетность печаль? Будто печаль непременно должна касаться его собственного кошелька! Что, несправедливость можно только в своём кошельке разглядеть? Вот уж глупость несусветная.
Но даже если и так, после расстрела Городского совета За’Бэй уж точно имел все основания чувствовать себя полноправным участником событий: в городе вспыхнули беспорядки, в городе стало небезопасно. И опять не в том дело, угрожало или нет что-нибудь самому За’Бэю, а в том, что у него в этом городе такое количество знакомцев, каким не каждый коренной петербержец может похвастаться. За’Бэй знал, что мясную лавочку брата одного старшекурсника вчера зачем-то подожгли, что в цирюльне, куда он заглядывал, устроили погром, потому что там прятался кто-то важный, что хорошему человеку из института Штейгеля сломали в давке на площади руку — а тот, между прочим, на хирурга учится!
Уже достаточно поводов для волнений, но главное, что открылось За’Бэю в последние дни, — это наличие у него действительно дорогих людей, о судьбе которых болела теперь голова. Отчего-то считается, что голова болит и сердце вздрагивает обыкновенно за семью, но семья За’Бэя была далеко за морем, а голова и сердце о покое так и так забыли.
Вот, к примеру, Гныщевич, сосед по общежитию. За’Бэй ценил его как раз за самостоятельность, за то, что уж Гныщевич-то о себе позаботиться умел — с ним всегда можно было расслабиться и поболтать за жизнь без малейших опасений, что от этой болтовни в душе поселится зуд опеки. А всё равно — как обмолвился Гныщевич о своём Союзе Промышленников, так сразу и ёкнуло что-то внутри: вдруг рисковая ставка? Вдруг Охране Петерберга промышленники поперёк дороги встанут? Возглавлять что-то в нынешней ситуации — себе дороже. Да и прямо сейчас, в казармах, Гныщевич нервничал — не любит он эти шинели, он ведь в Порту рос, у него инстинкт от шинелей бегать глубоко засел.
А граф Набедренных, наоборот, на шинели внимания обращает слишком мало — вовсе не разумеет, что такое за себя беспокоиться. Он же сам граф Набедренных, его так воспитали, в его светлую голову попросту не вмещается, что и ему может что-то угрожать. А он ведь хлипкий — не то что подраться там, убежать-то в случае чего не сможет. И при том порывается по улицам шататься! Конечно, За’Бэй приволок его в Алмазы и всем наказал стеречь.
И сегодня к генералам никак одного отпустить не смог, но не только из-за угроз физических — прямо в казармах, где все при оружии, от За’Бэя тоже никакого проку. Но не в том дело. Граф ведь места себе с самого дня расстрела не находил, его ж всего изнутри колошматит — ну как он серьёзные вопросы без поддержки решать пойдёт? Он хоть и светоч, а балбес тот ещё — уж за это За’Бэй на третьем году дружбы мог ручаться. Так иногда хотелось графу по шеям надавать за его художества! Вот и сегодня За’Бэй опасался художеств, но граф держался молодцом: выудил из каких-то глубин настоящую графскую спесь, генералов строил только так, привирал нагло, но по-своему изящно, не придерёшься. А физиономии строил такие, что и За’Бэй себя лакеем почувствовал.
Эвон какие резервы открывает в человеке беспокойство за другого!
— Впусти, — послышался из-за двери будто бы деревянный голос.
За’Бэй встряхнулся — в конце концов, на Твирина, оказавшегося Тимофеем Ивиным, поглядеть страсть как любопытно. Не до досужих размышлений в такой момент.
На глаз определить, на территории которой части они находятся, ещё Западной или уже Южной, За’Бэй не сумел. Может, и отличаются чем одни бараки от других, но он этих отличий не видел. Зато видел, что сама комната, куда их пригласили, переоборудована была явно наспех: письменный стол, к примеру, в дверь прошёл с трудом, у него с левого краю красноречивые следы транспортировки. Брошенных где попало мелочей, непременно заполоняющих всякое жилое помещение, какой бы аккуратностью ни отличался его обитатель, почти не видать, зато в одном углу громоздились прогорклые ящики, которые явно не успели вынести. В другом же углу на верёвке болталась занавеска, а за ней наверняка пряталось неуютное спальное место с отсыревшим бельём. Сырость вообще дышала здесь изо всех щелей, их ещё не заделали, и сквозило изрядно. После хорошо протопленного кабинета генерала-генерала Йорба, где их с графом обхаживали битый час, это было особенно заметно.
За’Бэй непроизвольно запахнул свою верную росскую шубу и, осознав, что посетительский стул тут всего один, примостился сбоку на ящик — всё ж таки графу солировать полагается.
Граф занял стул и прикурил папиросу. Тогда из-за занавески и появился Твирин.
Тимофей, то бишь, Ивин.
Коротко кивнул, сел через стол напротив, свинцовым жестом потёр веки.
За’Бэй еле удержался от того, чтобы присвистнуть.
Тимофея Ивина он впервые увидел в конце августа, когда префект Мальвин привёл того к графу. Главное, что волновало тогда всех в графовой гостиной, — это необычайно рыжие волосы детского друга Мальвина, поскольку была у Золотца одна трудность, благополучно решённая за счёт сего внезапного и удачного знакомства. Сейчас же За’Бэй хмыкнул: за переживаниями Золотца не пришло как-то на ум, что такая рыжина — и в самом деле! — точно хороший, подольше настоянный в дубовых бочках твиров бальзам. Надо же.
Было нечто забавное в том, что и такая рыжина, и такие вот фигурные брови вразлёт, и по-романному непристойно зелёные глазищи достались скромному, застенчивому мальчику, не умевшему справиться со своим желанием обязательно соответствовать, не разочаровать новых знакомцев. За’Бэй всё время его чуточку жалел — не всерьёз, походя, когда вообще замечал присутствие.
Вот и не замечай застенчивых мальчиков.
— Добрый день, — безмятежно поздоровался граф, погрешив против истины: до дня было пока далеко, они же мчались в казармы, чтобы опередить полдень, на который, по сведениям Мальвина, и назначено разбирательство с задержанным листовочником.
Твирин, Тимофей Ивин, ещё раз кивнул — будто выговорить хоть слово ему было сложно. Но не от застенчивости сложно, а от кошмарного переутомления, отпечатавшегося на нём, как рисунок подошвы в грязи.
Под зелёными глазищами — круги в пол-лица, кожа посеревшая, пересохшая, натянутая на кости так, как бывает с недосыпа. Непривычная, неопрятная щетина — словно ей впервые дали отрасти на этом лице, а потому рост шёл весь сомневающийся, вкривь и вкось. На плечи наброшена шинель Охраны Петерберга — всё же сквозняки, да и должно познабливать, если и впрямь недосып.
Шинель облагораживает любого, это непреложный закон природы, который на Твирина, Тимофея Ивина, распространялся сполна, но из-под шинели виднелась белая рубаха — кажется, тоже форменная, и эта рубаха всё портила. Сложно выдумать нечто более жалкое, чем несвежая белая рубаха.