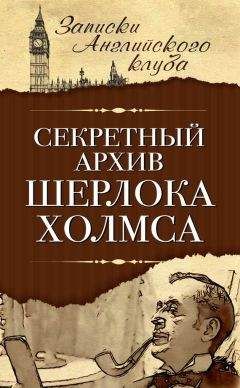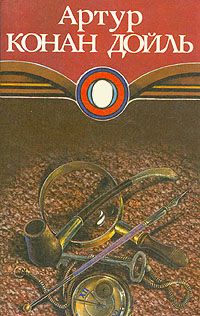Владимир Соколовский - Последний сын дождя
— Мр… ррн… на-ах!.. Ра-энн…
— Ать ты!.. — заскреб затылок Федька, озадаченный. — Эт-то что же получается? Мр-ры…ны… Обожди, обожди… Так… Это получается — Ми-рон. Мирон! Верно, нет? Вот так имечко! И удивительно подходяще, вот в чем суть! Да! Подходяще!
Он обрадовался, искривился телом, угобзясь на чурбаке, потирая сухие лапки. Вид его впервые, видимо, стал интересен кентавру: шевеля пальцами, тот потянулся к нему рукой. Сурнин прекратил свои крики и отодвинулся. Взгляд человека-коня стал тревожен, тосклив; он дотронулся до рта и подвигал вверх-вниз челюстью. Федька кинулся было к мешку с едой, но новый знакомец жестом пресек это движение и, продолжая двигать челюстью, потрогал себя сначала за одно, потом за другое ухо. Сурнин завертелся на чурбаке, озадаченно шипя и сплевывая, покуда не сообразил, наконец, смысл жестов. «Говори!» — приказывал тот.
И Федька растерялся. Впервые за много лет его просили не заткнуться, не замолчать сейчас же, а приглашали что-то сказать. Однако растерянность Федькина происходила скорей всего не от этого, а от сознания своей ничтожности и бессилия: его просили что-то сказать, а сказать-то ему своему гостю было, по сути, нечего. Не расскажешь же, в самом деле, про дела с Надькой Пивенковой, Авдеюшкой Кокаревым — еще подумает неведомый, что жалости просит душа! О работе в колхозе, о нелепой своей отсидке — это опять, выходит, стыд… Сурнин хоть и понимал, что нечаянный пришелец желает слушать его речь в этот раз не для того, чтобы понять суть его личности, и все-таки не хотелось с первого общения лезть с мелкими разговорами, но темы большие и хорошие так и не пришли, и Федька, путаясь и подкашливая, стал рассказывать о том, как раньше справляли свадьбы у них на деревне. Он и сам когда-то что-то видал, что-то слыхал от отца с матерью, стариков, правда, и забыл многое, сейчас все изменилось, но в этой беседе можно было иметь хоть какой-то внутренний порядок, не касаясь собственной личности.
— На блины зятю, значитца, взводят квашню не густо. Ну, мука там, вода, соль, дрожжи… квашня, короче! — Федька аж вспотел от напряжения мозга. — Девушка, понятно, должна быть честная. На другой день положено за это выпивать. На закуску… копченую рыбу осетёр…
Тому подобную чепуху плел Сурнин минут с двадцать, пока не выдохся. Тогда запел пискляво:
В терему девки пели,
Да раю-раю,
Во высоком воспевали,
Да раю-раю,
Да молодцы наезжали,
Да раю-раю,
Одну девку взяли,
Да раю-раю…
Спел и замолчал, пригорюнился. Кентавр, слушавший его очень внимательно, до легкой дрожи в крупе, натужил горловые мышцы и сказал:
— Т… ты!
— А? Кто?! Я?! — схватился с чурбака Федька, — Говорит, говорит! — заорал в восторге. — Так я ж тебе и сказал: знакомиться, паря, надо, вот что! Ну, как тебя звать, я, положим, знаю: Мирон. Вот и ладно! А я, значитца, — Сурнин, Федор Лукич, сын собственных родителей! — И протянул ладошку. Кентавр дотянулся до нее своей ручищей, оглядел и слегка тиснул пальцами. Федька, ободренный, развеселился:
— А как я, слышь ты, про свадьбу-то баял! Эдак-ту раньше было… что т-ты, брат! Я и сам-то, помню… — Он навострился было врать, но в последний момент так и не решился: скомкал фразу, покраснел, отвернулся и спросил вместо того:
— Ты откуль сюда явился… красивый такой?
Однако силы уже покидали нечаянного гостя: зевнув с хрипом и клекотом, он опустил торс на солому и забылся, положив голову на крупные, буйно поросшие черным, жестким кудрявым волосом руки.
Федька же поел хлебца от припасенной Мирону буханочки, попил водицы из ковшика и, выбравшись с ружьишком наружу, побежал по лесу. Холода стягивали потихоньку землю: она хрустела и лопалась, непокорная, под быстрыми ногами лесного жителя.
9
А пришел обратно уже по первому снежку. Едва Федька вышел из землянки, как погода размякла, и началась морось, земля стала оттаивать, шмотья грязи полетели с худых сапог. Потом неожиданно воздух окреп, полетел снег на сырое земное покрытие, с ветром заколдовала даже крохотная метельца, но лесному жителю не было зябко в старой телогрейке: следом за метельными спиралями он кружил и кружил по лесу, искал добычу. Глупые тетерева, обманутые видом белой тверди, бухались об нее и ковыляли с беспокойным сипом, перепелки оставляли на ней первые, сейчас же заносимые следы. Все это чувствовал Сурнин и знал, где может подстрелить добычу, но метельный хоровод не отпускал его от себя, заставляя забывать о ближней задаче, не давая опомниться от вида и запаха первого снега. «Ать ты!» — легко и радостно вздыхал Федька, слушая скрип под ногами. Где-то дрожали пугливые зайцы, волк нюхал воздух из темной своей норы — дух голодного и веселого времени шелестел между деревьями, приникал к редким, только концами стебельков торчащим из-под снега травяным кустикам.
Нет, не закружил бы Федьку сладкий метельный холод, и не сгинул бы он в глухой тихой чащобе: много бывавший в таких переделках, он не знал смертельной скуки, что нередко овладевает путниками, попадающими в губительный, хрустальный снежный хоровод. Люди падают в снег, и обрываются следы, и что-то добавляется тогда в ветряном крике.
Когда в сердце застучала печаль, он свернул под прямым углом с дороги, которой кружил, постоял немного, отряхнул снег с плеч и фуражки, и шаг его опять стал валок и деловит: человек тропил свою дорожку, не совпадающую с метельной, круговой дорогой природы!
Набрел на выводок растерянно ковыляющих по снегу тетерок и подстрелил одну. В землянке стал ощипывать добычу, хоронясь от упорного, шального взгляда Мирона. Освежевал птицу, завернул в клок старой газеты внутренности, чтобы завтра выбросить их на поживу лесному народу, подальше от своего жилья; разжег латаный-паяный, источающий зловоние примус, поставил на него чугунок с убитой тетеркой. Кентавр сосредоточенно наблюдал за ним, время от времени прикрывая воспаленные белки чуткими, поросшими сильным крутым волосом веками.
Закончив свои дела, Федька опустился на солому, обтер об нее испачканные кровью руки, и сказал:
— Ну вот, парень. Зима пришла.
Повторил, передернувшись зябко и сладостно:
— Зима, слышь-ко, пришла! Теперь как — вместе зазимуем, что ли?
— Уйду, — хрипло сказал кентавр.
— А иди! — гыгыкнул Сурнин. — Куды подешь-то? Когда поправишься, тут таких сугробов навалит — чапай по им копытами-то. Волки не сожрут — дак шатун завалит. Бродит тутока один… куды как свиреп! Или тебе уж не впервой — в наших-то местах?
— Не здесь. Скакал с оленями. Твердый снег.
— Это ты не равня-ай! — закричал Федька. — Я в тех местах тоже бывал, знаю! — У него екнуло сердце при воспоминании, как он там оказался. — Там по насту хоть до края земли скачи — и ускачешь! Здесь, брат, дело другое. Ты как сюды хоть забрался-то?
— Не знаю сказать. Нельзя остановиться. Надо идти.
— А вот и остановился! Остановили, сек твою век! А ежли бы помер теперь?
— Нет. Живу всегда.
— Как всегда? — Сурнин захлопал глазами. — На шиша же я тебя тогда выхаживаю? Выходит, ты и сам бы поправился? Хмырь ты болотной, ёкарный бабай… Я к ему как к человеку, а он… вона что, оказывается. Зачем ты мне здесь нужон такой-то?
— Уйду. Надо идти.
— Иди! А то, может, зиму-то и прокантуешься здесь? — с непонятной для себя самого надеждой спросил вдруг Федька. — По снегу, после раны… куды подешь? Разорвут в лесу, вот тебе и «живу всегда»! Сам себя из клочков не склеишь! Оставайся, правда! А то мне зимой одному-то здесь… тоска, брат!
От тетерки кентавр отказался, и хозяин землянки умял ее один. Мирон же доел Федькин хлеб, запил холодной водой, и они стали укладываться спать. Но, чуть задремав, мгновенно оторвали головы от пола, услыхав пронесшийся над землянкой дикий рев.
— Это шатун, шатун! — быстро сказал Федька. — Ать ты, нечистой дух!
— Придет сюда? — спросил охотника кентавр.
— Как не придет! — тоскливо отозвался тот. — Отсель ему и теплом, и жильем, и жратвой тащит… чем не берлога? И никого-то он об эту пору не боится — ни человека, никого… Что ему человек? Пластанет лапой по башке — и готов! Шатун, он и есть шатун — ни стыда у него, ни совести, одна злоба!
10
Гнусаво и хрипло взрявкивая, медведь катался по ночному снегу. Жесткие подушечки лап щипало от холода, снег забивался в ноздри, щекотал, время от времени зверь становился на четвереньки и чихал. Шатун был голоден: за целый день нашел только спящего в норке ежика, развернул его и выел мягкое брюхо, вместе с внутренностями. Не было больше ни клюквы, ни брусники, ни осыпавшейся смородины — все покрыл снег. Только сухой шиповник да кой где волчья ягода. Ужасны, темны и холодны стали в последнее время ночи для этого медведя; сородичи его вовремя ушли от такого ужаса, залегли по берлогам. Он же, потерявший сон и соплеменников, голодный и паршивый, таскался по заснеженному лесу. Природа не оставила ему здесь места для этого времени года. Кровь мутно и тяжко приливала к горячим глазкам, жадное дыхание палило нежный еще снег, когти метили осыпающуюся кору, и лесной народец мчался стремглав от места, меченного страшными лапами и злобным рыком. Лишь волки равнодушными тенями скользили кругом него: они были сыты и убеждены в своей стадной силе. Сейчас еще хватало еды, и они не связывались с медведем, которого уважали и боялись. Но не ждать ему пощады в лютые январские морозы, когда голод напомнит волкам о их бесстрашии и свирепстве, и не будет пищи вокруг человеческого жилья.