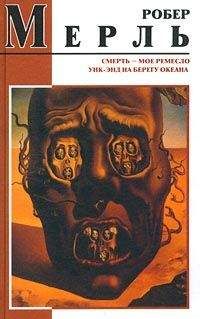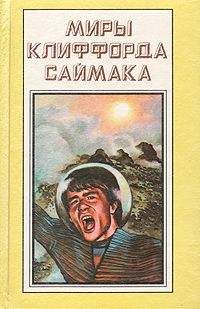Робер Мерль - Мадрапур
– Нет, нет,– говорит миссис Банистер,– вовсе наоборот.– И sotto voce добавляет со скрытой иронией: – Этот несчастный сам их заставил.
Немного помолчав, Мюрзек говорит, приглушая голос:
– На что же они играют, если у них нет денег? Что означают эти листки?
Ни миссис Банистер, ни миссис Бойд отвечать на этот вопрос не собираются, и тогда, чуточку выждав, Робби со вполне серьёзной миной, но со вспыхнувшими глазами наклоняется вперёд, чтобы видеть Мюрзек, и говорит деловым тоном:
– Эти листки, благодаря сделанной от руки надписи, стоят по тысяче швейцарских франков каждый. Они взяты из пачки туалетной бумаги.
– Но это же отвратительно! – говорит Мюрзек, всё так же не повышая голоса.
– О, вы знаете,– отзывается Робби,– деньги не пахнут.– И добавляет: – Это, пожалуй, самое сильное обвинение, которое можно предъявить капитализму.
При всей своей безобидности этот выпад против основных нравственных ценностей Запада не оставлен без внимания: Блаватский устремляет на Робби подозрительный взгляд. Самое приятное, когда имеешь дело с полицейским, даже если он очень умный, то, что ты чуть ли не воочию можешь видеть, как работают у него мозги. В эту минуту я почти наверняка знаю, что думает Блаватский о Робби. Однако он ошибается, ибо Робби слишком сосредоточен на своей персоне, чтобы примкнуть к какой-нибудь политической доктрине, разве что совсем ненадолго и совершенно пассивно.
Когда я сижу неподвижно, я почти не ощущаю своего болезненного состояния. Если не считать ног. Чувство, что они у меня ватные, мне уже доводилось испытывать прежде. Но есть и существенная разница: сейчас это не выздоровление после гриппа, когда есть надежда, что с каждым днем тебе будет становиться всё лучше. С нарастающей тревогой я ощущаю, что всё глубже погружаюсь в недуг, о котором я совершенно ничего не знаю и который не вызывает у меня ни жара, ни болей, ни даже просто недомогания – только ощущение сильнейшей астении и безмерной усталости. Думаю, что люди, страдающие острым малокровием, да ещё глубокие старики должны все двадцать четыре часа в сутки испытывать это тягостное чувство, когда силы неотвратимо покидают тебя.
Одновременно – должно быть, из-за моего бессилия – у меня появляется повышенная возбудимость, с которой мне почти невозможно совладать. Меня всё раздражает, всё действует мне на нервы, и больше всего эта партия в покер в правой половине круга, которую разыгрывают между собой три человека – умирающий, торгаш и любитель «малолеток». Мне трудно вынести самый вид их физиономий, их задумчивое молчание, маниакальное манипулирование картами, трагические голоса, которыми они объявляют ставки, шуршанье бумажных листков, которые им служат деньгами. Я закрываю глаза, но продолжаю их видеть, пленников собственного ритуала, встревоженных, алчно тянущихся к приманке смехотворного выигрыша. И я чуть ли не ощущаю внезапное сердцебиение, когда кто-то из них торжественным тоном требует «раскрыться», и проходит не одна секунда, прежде чем партнёр выкладывает свои карты. Хотя я человек по природе терпимый, меня охватывает отвращение. Мне кажется, что человеческое сердце, особенно в часы и минуты, которые выпали сейчас нам на долю, должно биться во имя чего-то другого, а не ради клочков бумаги, предназначенной для подтирки.
Чем дольше тянется эта партия, тем сильнее охватывает меня тошнота, когда я думаю о фальшивости этого идиотского культа, этого бесстыдного публичного поклонения случаю, деньгам и обману.
– Жаль, что у вас нет больше ваших перстней, мсье Христопулос,– неожиданно говорит Блаватский, в то время как Пако, у которого заметно поубавилось количество подписанных им листков, долго тасует карты.– Вы бы могли поставить их на кон.
– Я никогда не ставлю своих перстней на кон! – говорит Христопулос так, как будто они до сих пор украшают его пальцы.
– Да, разумеется,– говорит Блаватский,– в этом, должно быть, нет необходимости! Вряд ли вы часто проигрываете!
– Действительно,– со спокойным апломбом отвечает Христопулос,– я выигрываю. И выигрываю не потому, что мухлюю, мсье Блаватский. Вопреки вашим грязным инсинуациям, я выигрываю потому, что умею играть.– Он проводит рукой по лбу, чтобы вытереть пот, и не без достоинства продолжает:
– Как греческий гражданин, я должен выразить сожаление в связи с расистским характером ваших инсинуаций.
Блаватский молчит, не оправдываясь и не извиняясь. Он сидит как глыба, губы сжаты, глаз за очками не видно.
После чего Мюрзек вздыхает и меланхолически говорит:
– Индус вышел на большую дорогу, а мы вот пошли по малой.
Это загадочное заявление так могло и кануть на дно общего равнодушия, если бы не Робби, который вытаскивает его на поверхность.
– Что вы подразумеваете под «большой дорогой», мадам? – спрашивает он с напускной или искренней (этого я определить не могу) почтительностью.– И что вас заставило предположить, что индус вышел именно на неё?
– Но он сам ведь сказал,– отвечает Мюрзек.– «Я человек с большой дороги».
Ошибка так очевидна и так для меня, лингвиста, невыносима, что я считаю себя обязанным вмешаться.
– Простите, мадам,– говорю я по-французски.– Вы сделали небольшую ошибку при переводе. Индус действительно сказал «I am a highwayman», но это выражение имеет в английском языке совсем другой смысл, нежели тот, на котором вы остановили свой выбор. На самом деле эта фраза означает «Я бандит с большой дороги».
– И вы всерьёз считаете, что индус был бандитом? – с негодованием уставившись на меня, спрашивает Мюрзек.
Я не успеваю ответить. Мадам Эдмонд опережает меня.
– А кем же ещё его считать? – кричит она громко.– Он, жулик, обчистил нас до нитки, даже часы у меня снял! Да ещё не забывайте, что он всё время нас держал под прицелом и чуть не шлёпнул малышку. Ведь правда, котик? – продолжает она, кладя свою мощную руку на тонкие пальцы Робби.
Но поддержки она с этой стороны не находит. Робби одаряет её чарующей улыбкой, но качает головой.
– Да нет же, котик! – говорит мадам Эдмонд с раздражением, отчего у неё сильно колышется грудь.– Ты не можешь этого отрицать! Я как сейчас вижу, как этот тип уносит всё наше добро в своей сумке!
Мюрзек издаёт крик, все глаза устремляются на неё.
– Ах, я вспомнила,– говорит она.
И поскольку она молча сидит с закрытыми глазами и с искажённым от волнения лицом, Робби мягко спрашивает:
– О чём вы вспомнили?
Она открывает глаза и говорит:
– Об индусах, идущих вдоль озера.
Она снова молчит.
– Ну конечно,– мягко говорит Робби.
Он глядит на Блаватского и поднимает руку ладонью в его сторону, как будто хочет предотвратить очередное его вмешательство. Затем продолжает голосом осторожным и тихим, словно боясь оборвать ту хрупкую нить, которая связывает Мюрзек с её воспоминаниями:
– Они идут впереди вас. Вы ведь видите их со спины, правда? Их чёрные силуэты проступают в световом пятне, который образован их фонарём. Вы ясно различаете тюрбан на голове индуса и сумку из искусственной кожи, которая раскачивается у него в руке. Он идёт вдоль берега озера.
– Но это не обычный берег,– говорит Мюрзек с неподвижно застывшим жёлтым лицом.– Это набережная.
– И в какое-то мгновение индус повёл своим фонарем вправо и вы увидели воду?
– Воду и набережную,– говорит Мюрзек.– Вода была чёрная.
Она опять замолкает, и Робби тихонько спрашивает:
– И тогда?
– Он шёл очень близко от воды.
– По самому краю?
– Да, по самому краю. Сумкой из искусственной кожи он размахивал над водой.
Снова пауза. Христопулос поднимает голову и замирает с картами в руке.
– И потом? – спрашивает Робби.
– Потом он вытянул руку. Разжал пальцы. Сумка упала.
– В воду?
– Да, в воду.
– Это ложь! Это ложь! – вопит, выпрямляясь с картами в руке, Христопулос.– Вы лжёте. Вы это всё сочинили!
Глава одиннадцатая
Первым на этот вопль отреагировал не Блаватский, как можно было ожидать, а Караман. Подёргивая уголком губы, он говорит тем чопорным тоном, из-за которого мне всегда кажется, что он самого себя пародирует:
– Это с вашей стороны неучтиво, мсье. Сядьте, прошу вас.
И Христопулос, видимо раз навсегда решив, что не в его интересах раздражать Карамана, не произносит больше ни слова, садится опять на место, утыкается носом в карты и полностью устраняется от участия в дискуссии, в которую вмешался с таким оглушительным шумом. Но пререкания продолжаются без него, следуя законам какой-то чисто поверхностной логики, тем более поразительной, что её конечную цель совершенно невозможно определить. Ибо, если судить здраво, имеет ли этот спор вообще какой-нибудь смысл? Зачем он? Какой в нём прок? И об этом ли нужно нам сейчас спорить?
– Мадам,– говорит Караман, обращаясь к Мюрзек,– я отнюдь не разделяю тех обвинений, которые были вам только что брошены. Но ваше сообщение меня удивляет.