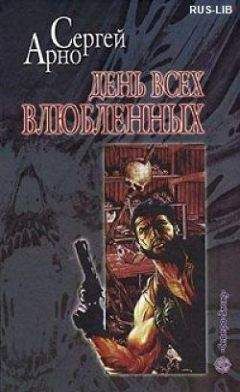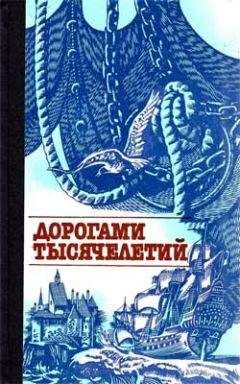Федор Метлицкий - Остров гуннов
– Мы отсекаем нездоровые члены.
– Вы одни знаете, где здоровье, а где болезнь? Закон должен быть только для насильников над людьми.
Эдик от волнения высокопарно произнес:
– Ваш закон – священный меч отрядов туменов, занесенный над трепещущей жертвой. В нем собраны все залежалые анналы прошлого, которые у горящего куста преподнес сумасшедшему жестокий Господь Мира в виде скрижалей, высунувшись из облаков.
Эдика несло в пропасть.
– Я уважаю предания, но из-за них Остров обречен. А вам и потоп нипочем!
В голове председателя, под красным покровом капюшона, зашевелилось что-то живое и острое.
– Подрываешь основы суда – это еще одно преступление.
Как обычно у гуннов, их подлинные цели были скрыты под ложностью неожиданных обвинений. Они отнимали нашу жизнь, но почему-то играли в правосудие.
Я взял себя в руки.
– У вас же все давно решено. Зачитывайте приговор.
Заключение уже было сформулировано всей глыбой юриспруденции, созданной в сражениях с врагами, и другой не могло быть. Председатель заучил ее еще в юности, под розгами преподавателя. Оставалось только прочесть.
– Признаем тебя, чужденец, пришедший из темного мира, за все изложенное и исповеданное тобою, под сильным подозрением Высокого судилища:
– в злонамеренном поджоге зданий, принадлежащих народу, и сожжении поселенцев;
– в разжигании розни среди населения с целью упразднить власть и парламент;
– в охулке на священные законы и великую власть;
– в совращении школяров и организации секты, противной основам господствующей веры…
Ты чужденец, вообразивший себя сыном неба, имеющий от роду… лет, по решению Высокого судилища…
– Также признаем тебя, живущий праздно Эдекон…
– Также тебя, называемого Летописцем, коего неоднократно осуждали за вольное толкование предания…
Теперь уже нас поглотила навсегда чудовищная темнота предустановленного мира, лишенного милосердия. Я смутно видел монстров в кроваво-красном, с мясистыми пятнами лиц, закрывших законом свою человеческую суть, и почему-то представилась ржавая баржа, где нас, заключенных, сейчас затопят далеко от спасительного берега. И мысль лихорадочно искала выхода. Я уже был не я, а какое-то дрожащее месиво, глядящее в безобразную черноту, поглощающую все, чем жил.
А кровавая судьба бесстрастно читала приговор.
Суд стал гуманным: моих соратников не подвесили на крестах вдоль мощеных булыжником дорог, не заключили в притвор пожизненно. Эдик получил пятьдесят лет, остальные наши соратники по двадцать пять, без права общения с родственниками. Только меня приговорили к усекновению главы. Как сказано в приговоре, это была милость по сравнению с четвертованием, предназначенным для низкого сословия, и сожжением как еретика…
Мое возбуждение опало. Неподъемное крыло истории накрыло меня. Свершилась обычная в этом мире несправедливость к трепетному живому существу, которая происходит ежедневно, ежечасно, но кажется огромной и невозможной для отдельного обвиняемого.
Многие из наших сторонников оказались в темницах в ожидании решения суда. Какой будет приговор, говорить не приходилось. Суд продолжал выносить только обвинительные приговоры.
Прежде чем к нам приступили конвойные, мы с Эдиком обнялись. Он не ожидал сурового приговора, удивленно сказал:
– Никто не пришел на площадь защитить нас. Я считал гуннов лучше, чем они есть. Не представлял, что Экополис обернется их уединением на дачах. Неужели люди совсем другие, которых я не знал?
Когда его уводили, схватив за руки, он декламировал:
И была любовь, слишком ранняя,
Первозданной, такой чистоты,
Что не может выжить, отравлена
Неотзывчивым веком простым.
Тюрьма была похожа на тот длинный серый прямоугольник, где я уже сидел однажды, и где было уютно зарыться в углу камеры и замереть навсегда, чтобы избежать боли. Меня заперли в камере для смертников.
Поселенцы Свободной зоны замкнулись на своих дачах. Пан, как святой Петр, знавший Спасителя, и Алепий рассказывали легенды об Эдеме, который им довелось строить, и о небесном пришельце, улетевшем в иной мир.
Студенты Академии Ильдики разбежались. Они гурьбой уходили, распевая песенку:
День настал веселия:
Песнями и пляскою
Встретим залихватскою
День освобождения
От цепей учения.
«Новые гунны» радостно готовились к моей казни, как празднику, шумели у решетки окна моей темницы. Толпы кричали:
– Измяна!
– Сектанты!
– Долой мужеложников!
Я увидел, как мои любимые ученики окружили их и стали разгонять, требуя освободить заключенных. Заметалась драка. Скоро бордовые береты, размахивая шпагами, отступили перед лавиной подкреплений «новых гуннов».
Я знал, что Аспазия осталась на свободе, ведь, ее не было на независимом вече.
Я прожил долгую жизнь, которую не могу помыслить во времени. Она передо мной, сейчас и в пространстве памяти, оставшиеся любимые люди и предметы – одежда, фотографии, старые книги. Именно сейчас, а не в прошлом. Времени – нет. Есть только пространство. Только последовательность неповторимых событий в пространстве создает ощущение остановленности времени.
Как она там? Теперь никогда не узнаю.
Она появилась у окошка комнаты свиданий, гордые плечи опали. Мы издали кивнули друг другу обреченными, не ведущими никуда кивками, и смотрели друг на друга молча. Я механически спросил:
– Как дома? Как театр?
Она подняла полные слез глаза.
– Мой дом там, где ты.
Представил, как она будет неприкаянно ходить по своей комнате с ненужными безделушками, оглядывать кресло, где я сидел, кровать, где мы сливались в одно, и уже не могли думать о себе отдельно. И желал, чтобы она приняла мою смерть как неизбежное, стряхнула недавнюю привязанность, как женщина, готовая забыть и ринуться в новую жизнь. Эта мысль вызвала во мне безнадежную ревность. Я ревновал, хотя меня уже почти нет.
Пусть же со временем ее потеря уйдет вглубь, и станет неразличимой.
Меня оттащили от окна.
И вот я снова сижу на каменном полу смертной камеры. За решеткой узкого окна возятся и воркуют голуби.
Что это было? После космического одиночества на пустынном берегу океана влился в человеческую теплую среду, но она оказалась обманчивой. Как на якоре, намертво был прикован к этой земле, где не смог найти исцеления. Хотел вырваться из амнезии – сна разума. В озарениях забывал о муках самопознания, как богач забывает о времени, когда считал копейки. И что же? Одинокие озарения едва светили другим людям, как из невидимой глубины куполά затонувшего града Китежа. Дело не в совершенствовании человека. В человеческой истории амплитуда колебаний слабой энергии любви – одной из фундаментальных свойств взаимодействия материи, понижается и повышается неведомыми путями.
Иисус проповедовал, что грядет царство божие на земле. Римлянам не нужно было иного царства, кроме римского, и его распяли. Моя родина также оказалась не нужна гуннам. Куда была устремлена моя судьба? В близости ли родины дело? Что – за этим? Никто не знает.
По привычке, записал огрызком карандаша:
И вот конец! Не нужно мучить мозг,
Погибнет все, что мною так любимо!
И нищенство души, и к свету мост,
Где теплоте бессмертия не сгинуть.
Не будет безысходности потерь,
Угрозы онемения старенья,
Упрямства в деле, где не нужно вер,
Единственного духу озаренья.
Я вдруг вспомнил про айфон с роумингом, подаренный мне прилетевшей «тарелкой», зашитый в моем халате. Чем черт не шутит! Кинулся шарить в подкладке, вынул его. Слава богу, зачем-то попросил Савела подзарядить его в аппаратной для освещения «позоров», хотя такая связь ничего, кроме подозрений в колдовстве, не давала.
Надо «валить» отсюда, как говорили геологи из «тарелки». Я вам не дам, чтобы показывали мою отрубленную голову Аспазии!
И послал эсэмэску с сигналом «SOS!», как мы договаривались с геологами в случае опасности. Наверно, их давно нет, и от этой мысли я обессилел и уронил голову на холодную стену.
39
Это не сон? Я оказался в моем мире, с которым некогда расстался.
То, к чему стремился, о чем мечтал, вот он – как созвездие в космосе горящий огнями мегаполис, пронизанный пульсирующими струями автомобильных потоков, и накренившееся до горизонта бесконечное пространство древнего одомашненного океана. Исчез, словно никогда не было, ужас погребения заживо в зиндане. И нет никаких страхов и беспокойства, как будто оказался в далекой командировке к звездам, отрезанный от мучительного прошлого, или на берегу теплого океана под пальмами, где не бывает тревог.