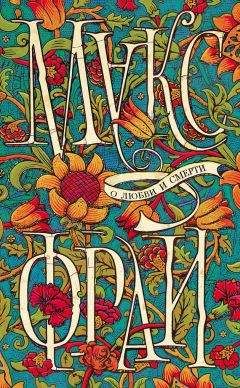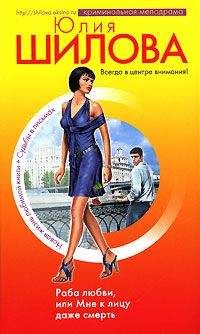Ольга Славникова - Легкая голова
Домой Шутов добирался по тяжелому дождю, цепляясь зонтом за зонты, превратил новые ботинки в размокшую клеенку и все думал, что надо теперь непременно идти к исповеди. Вечером прибежал возбужденный Кузовлев, расспрашивал про телевидение, очень заинтересовался банкиром и выпросил себе измятую визитку. Далее события развивались в непредсказуемом для Шутова направлении. Заручившись поддержкой доброго банкира и купив себе почти такое же, как у него, плечистое черное пальтище, Кузовлев уломал и усовестил Шутова зарегистрировать общественную организацию. На счету организации, откуда ни возьмись, возникли деньги. Повеселевший Кузовлев принялся энергично делать другое. Он арендовал темноватый офис, где от старых штукатурных стен слабо, но неистребимо пахло кухней, посадил туда грудастую, как голубица, сонную секретаршу. В это пасмурное помещение стали приходить непонятные Шутову партнеры, часто в сопровождении бойцов, представлявших собой черные кожаные бочки на трикотажных коротких ножках. Шутов очень просил и Кузовлева, и секретаршу Галю, большую часть времени гонявшую на компьютере юркие преферансы, не пускать деловых людей; но чужие продолжали тянуться.
Шутову было в офисе нехорошо, мутно. Здесь он казался самому себе — и в действительности был — совершенно не у дел. Кузовлев, его официальный заместитель, все проворачивал сам и всегда держал у себя официальную печать организации, эту чумазую пешку, становившуюся ферзем, когда Кузовлев, подышав на нее из самой глубины души, выдавливал рябенький от трепетности оттиск на бухгалтерский документ.
Получавший какую-никакую прожиточную зарплату, Шутов был даже благодарен Кузовлеву, когда тот повез его работать в провинцию: разговаривать с людьми в четырех уральских городках. На Урале Шутов увидал снежный дым в подоблачных сосновых вершинах, скальные стены невероятно сложной кладки, фантастически черневшие в снеговой белизне, точно в камень было добавлено чугуна, — но и гигантские ядовитые заводские трубы, присыпанные острыми промышленными специями городские сугробы, изъеденные оспой статуи сталеваров, грязные флаги над административными зданиями, отяжелевшие так, что ветер не мог их пошевелить. Шутов выступал по два, по три раза в день — все в глухих, коробчатых зальцах, где перед началом громко хлопали сиденья в зрительских рядах и занавесы бордового плюша приподнимались, будто женские юбки, любопытными. Люди на Урале — может, потому, что были темно и толсто одеты — в массе казались ниже привычного роста, но по отдельности были высоки, ширококостны, скуласты, как увиденные Шутовым в музее кузнечные клещи, и чрезвычайно дотошны в копании сути. Только здесь Шутов по-настоящему понял, что не предлагает никакой оригинальной философской или жизненной системы — но нет ничего трудней, чем говорить людям то, что они и так знают. Шутова слушали с горящими из рядов волчьими глазами, присылали много накорябанных на клочках вопросов, сильно интересовались, нельзя ли купить, здесь или в Москве, шутовскую книжку. Несколько раз при входе в техникум или ДК, где предстояло выступать, Шутов замечал наклеенный рядом с афишей кино глянцевый портрет доброго банкира: его лицо, очень хорошего телесного цвета, улыбалось на фоне погожей синевы и как бы преподносило себя, будто каравай, всем добрым людям, что поднимались по обледенелым ступеням на свет желчного фонаря. Кузовлев, купивший на Урале норковую шапку, красиво осыпаемую снежинками, с живостью объяснил, что банкир будет выступать в тех же залах сразу после Шутова, только по экономическим вопросам. И лишь вернувшись в Москву, Шутов случайно узнал, что, оказывается, ездил агитировать за банкира, выставившего свою кандидатуру на довыборы в Думу. Тут он впервые с тех пор, как окрестился, стукнул по столу кулаком.
Дальше случилось то, что Максим Т. Ермаков мог бы с легкостью предсказать, а вот Шутов, похоже, до сих пор не пришел в себя от удивления. Для него это было как сон — собрание, где его исключали из состава учредителей. На сон это было похоже в том смысле, что знакомые и близкие люди, так привычные Шутову наяву, находились в странном положении и вели себя странно, говорили неестественными голосами. Секретарша Галя, например, никак не могла быть соучредителем фирмы, но, тем не менее, была и голосовала, и ее голубиную грудь украшало крупное ожерелье из комковатой бирюзы, которого прежде Шутов на ней никогда не видел, зато видел его — или очень похожее — на витрине узкого, как лифт, ювелирного магазинчика, мимо которого ежедневно пробегал из офиса в метро. Другая комбинация сна заключалась в том, что Кузовлев явился на собрание таким, каким его помнил Шутов до близкого знакомства: совсем молоденьким, сиплым, не узнающим Шутова быстрыми серыми глазами, которые, казалось, прыгали, когда он считал твердые, как колья, поднятые руки. Позже ошеломленный Шутов, выставленный, с его персональной кружкой и сложенными в папку иконами, за офисную дверь, никак не мог отделаться от мысли, что на таких снящихся собраниях, как правило, между живыми сидят и покойники. Через пару месяцев ему сообщили, что Галя, секретарша, возвращаясь домой на маршрутке, попала в кровавую аварию и скончалась на месте — причем никак невозможно было выяснить, стряслось это до собрания или все-таки после.
Тем не менее сон сказался на реальности: Шутов опять остался без средств, с немногими опечаленными единомышленниками, что продолжали приходить по вечерам, принося кто банку рыбных консервов, кто пакет гречневой крупы. В стремительно желтеющей газете, что прежде печатала Шутова, появилась статья, в которой за Шутовым числилась оптовая торговля алкоголем плюс большие суммы, взятые с «учеников», продавших квартиры и иное ценное имущество. Теперь уже милиция пришла к Шутову домой, сделала обыск, вывалила на пол все блеклые пожитки, распорола оставшуюся от сына родную, полысевшую по швам плюшевую собаку.
Собственно говоря, гонители Шутова и его поникшего кружка делились на две категории. Первые — они составляли народное большинство — подсознательно были уверены, что всякое движение от меньшего знания к большему, то есть к узнаванию правды, есть движение от хорошего к дурному, из света во тьму. Эти считали Шутова жуликом, прикрывшим бумажник Библией. Но были и другие, понявшие, что Шутов именно то, за что себя выдает. И эти другие сочли Шутова опасным. Полгода его вызывал к себе на собеседования спокойный, пышущий здоровьем мужчина в штатском, имевший густые волосы цвета вареного мяса и носивший розовые рубашки под плечистый, в пшенную крапину, коричневый пиджак. Спокойный мужчина вежливо расспрашивал Шутова про его концепцию христианской чистоты, интересовался, что за люди посещают его домашние семинары, кто такие, чем дышат, в чем имеют нужду. Несмотря на внешнюю простоватость мужчины, его прозрачные глаза просвечивали Шутова рентгеном до самого сжатого сердца — и всякий раз, выходя из кабинета с отмеченным пропуском, Шутов чувствовал, что опять облучился, схватил непомерно большую дозу, отсюда слабость, запаленное дыхание, шум в голове. Собственно, мысль, внушаемая мужчиной, была проста: надо сотрудничать и принять помощь от органов, а если нет, то лучше прекратить самодеятельность, потому что ни к чему хорошему это не приведет.
Шутов долго думал и понял, в чем дело: государство, оправившись от потрясений, принялось вырабатывать единый для всех, сине-бело-красный с золотом, позитив, и любые группы граждан, предлагающие от себя позитив иной окраски и тональности, стали нарушителями госмонополии на важнейший символический капитал. Осознав, что сделался комком в каше, Шутов какое-то время строил планы — а не продать ли квартиру в Москве, не уехать ли десятью-двенадцатью семьями куда-нибудь далеко. Выкупить на Урале крепкие, серебряные от старости, дома в заброшенной деревне, поселиться среди природной каменной причудливости и хвойного шума, завести коров, косить траву, молиться Богу. Однако уральская идиллия вскоре была перечеркнута тем соображением, что в покое поселенцев не оставят ни в коем случае, потому что это будет уже не просто самодеятельность, а захват территории. Государство обязательно почувствует крохотную дырку в своей обширной шкуре, болезненный укол отчуждения. Шутов так и видел наезжающих со всех сторон милиционеров на мотоциклах с коляской, милиционеров на просмоленных моторных лодках; видел оцепление вокруг деревни из горланящих журналистов и тихих до поры спецназовцев, с трикотажными черными бошками на камуфляжных плечищах, очень всерьез вооруженных. Казалось — тупик.
Решение Шутову подсказал пьяненький мужичонка в легком не по сезону, бумажном на холоде плащике, в раззявленных башмачищах, измаранных еще осенней посеревшей грязью, присохшей мертво, как бетон. Испитая морда мужичонки, от которой остались одни морщины и грубые кости, свидетельствовала о большом алкогольном стаже; он шарашился у выхода из метро, хватал пустые бутылки, что оставляла на бортике и на ступенях пивная молодежь, скрежетал туго набитой стеклом матерчатой сумкой, спотыкался, пихал людей. На мужичонку никто не смотрел: люди, в клубах сырого пара, текли из мокрой январской подземки, бежали по едким, насыщенным химией лужам, и даже тот, кто натыкался на дурно пахнущее чучело, поспешно отводил глаза. Все в этом алкоголике, от распухших башмаков до непокрытой лысинки, видом напоминавшей яичко в растрепанном гнезде, взывало к сильным чувствам — от жалости до презрения к человеческой природе; тем не менее, он был невидимкой, единственный из всех.