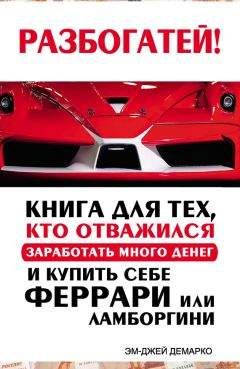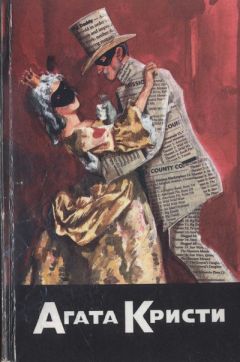Роберт Силверберг - Умирающий изнутри
— Кроме того, если ты выйдешь за него замуж, он, наверное, захочет, чтобы ты бросила Германта. Не думаю, что он смирится.
— Ты знаешь о нас с Клодом?
— Конечно.
— Вечно ты все знаешь.
— Но это же очевидно, Джуд.
— Я думала, твоя сила ослабла.
— Да, да, она ослабевает быстрее, чем когда-либо. Но это было так очевидно. Даже невооруженным глазом.
— Ладно. Что ты о нем думаешь?
— Он — смерть. Он — убийца.
— Ты судишь о нем неверно, Дэйв.
— Я был в его голове. Я видел его, Джуд. Это — не человек. Для него люди — игрушки.
— Если бы ты сейчас слышал свой голос, Дэйв. Враждебность, откровенная ревность…
— Ревность? Я похож на кровосмесителя?
— Всегда был, — отвечает она. — Но оставим это. Мне, правда, казалось, тебе понравился Германт.
— Да, понравился. Он волнует, но я думаю, что кобра тоже волнует.
— Пошел ты к черту, Дэйв.
— Ты хочешь, чтобы я притворялся, что он мне понравился?
— Я ничего не хочу. — Старая ледяная Юдифь.
— А как реагирует на Германта Карл?
Она молчит. Наконец:
— Очень отрицательно. Карл — раб условностей, понимаешь. Прямо как ты.
— Я?
— О, ты так чертовски прямолинеен, Дэйв! Ты такой пуританин. Всю мою проклятую жизнь ты читаешь мне мораль. Когда я в самый первый раз переспала с парнем, ты был там и показывал на меня пальцем…
— Почему он не нравится Карлу?
— Не знаю. Он думает, что Клод злой. Что он злоупотребляет. — Ее голос неожиданно ровен и скучен. — Может он просто ревнует. Он знает, что я все еще сплю с Германтом. О Господи, почему мы снова сражаемся, Дэйв? Почему нельзя просто поговорить?
— Не только я сражаюсь. И не только я повышаю голос.
— Ты меня провоцируешь. Ты всегда это делаешь. Ты шпионишь за мной, а потом провоцируешь и стараешься побороть.
— Джуд, трудно менять старые привычки. Хотя на самом деле, я не сержусь на тебя.
— Сколько самодовольства!
— Я не сержусь. Это ты. Ты становишься сердитой, когда видишь, что Карл и я сходимся во мнении относительно твоего друга Клода. Люди всегда злятся, когда им говорят то, что они не хотят слышать. Послушай, Джуд, делай что хочешь. Если Германт то, что тебе нужно — вперед.
— Не знаю. Я просто не знаю. — Неожиданная уступка. — Может в наших отношениях есть что-то ненормальное.
Ее железная самоуверенность сразу пропадает. Удивительное качество: каждые две минуты видишь другую Юдифь. Сейчас она смягчилась и кажется неуверенной в себе. Через мгновение она повернет от своих проблем ко мне.
— Приходи ужинать на следующей неделе. Мы очень-очень хотим собраться вместе с тобой и посидеть.
— Постараюсь.
— Я волнуюсь за тебя, Дэйв. — Да, вот оно. — В субботу ты был такой взвинченный.
— У меня были трудные времена. Но я все преодолею. — Мне не хочется говорить о себе. Я не хочу ее жалости, потому что потом могу начать жалеть себя сам. — Слушай, я тебе позвоню, о'кей?
— Тебе все еще очень больно, Дэйв?
— Я привыкаю. Я стараюсь принять все как есть. Все будет в порядке.
Звони, Джуд. Привет Карлу. И Клоду, — добавляю я и кладу трубку.
Среда. Утро. Еду в центр отвезти свои последние шедевры. Сегодня даже холоднее, чем вчера, воздух прозрачнее, солнце ярче и отдаленнее. Каким сухим кажется мир. При такой погоде у меня обычно ошеломляющая ясность восприятия. Но я едва принимаю сигналы, пока добираюсь на метро до университета, только какие-то смазанные отблески и скрежет — ничего ясного. Я уже не знаю, могу ли обладать силой в определенный день, и сейчас такой пустой день. Непредсказуемый. Таков уж тот, кто живет в моей голове: непредсказуемый. Я иду к обычному месту и поджидаю своих клиентов.
Они подходят, берут то, за чем пришли, и суют мне в ладонь зеленые баксы.
Дэвид Селиг, благодетель человечества. Я вижу Йайа Лумумбу. Словно черная секвойя, он идет от Бутлеровской лаборатории. Почему я дрожу? Это влияние холодного воздуха, не так ли, первый намек зимы, смерть года. Приближаясь, баскетбольная звезда машет рукой, кивает, улыбается, все его знают, все окликают. Я чувствую сопричастность к его славе. Когда начинается сезон, я, возможно, пойду посмотреть, как он играет.
— Принес бумаги, парень?
— Вот они. — Я вытаскиваю папку. — Эсхил, Софокл, Эврипид. Шесть страниц. Значит, двадцать один минус пять, что вы мне давали, — вы должны мне 16 долларов.
— Подожди, парень, — он садится на ступеньку рядом со мной. — Мне же нужно сначала прочитать, так? Откуда я знаю, что ты там понаписал?
Я смотрю, как он читает. Я почему то жду, что он будет шевелить губами, спотыкаясь на незнакомых словах, но нет, его глаза быстро пробегают строчки. Он покусывает губу. Он читает быстрее и быстрее, нетерпеливо перелистывая страницы. Наконец он поднимает на меня мертвые глаза.
— Это — дерьмо, парень, — говорит он. — Вот это — дерьмо. Кого ты хочешь надуть?
— Я гарантирую, что вы получите Б+. Пока не получите оценку, можете не платить. Если будет меньше, то…
— Нет, слушай меня. Кто говорит об оценках? Я вообще не могу взять эту чертову писанину. Слушай, половина — это какой-то бред, а вторая половина прямо списана из книжки. Дерьмо, вот что это. Проф прочитает это, посмотрит на меня и скажет: Лумумба, как ты думаешь, кто я? Ты думаешь, я идиот, Лумумба? Ты не писал эту чушь, скажет он мне. Ты не веришь ни одному слову. — Он сердито поднимается. — Вот, я тебе кое-что почитаю, парень. Я тебе покажу, что ты мне подсунул. — Перелистывая страницы, он хмурится, ворчит, качает головой. — Нет. Какого черта? Ты знаешь, кто ты Такой, парень? Ты смеешься надо мной, вот оно что. Ты играешь с тупым ниггером, парень.
— Я пытался, чтобы было похоже, что писали вы…
— Чушь. Не дури мне мозги, парень. Ты наложил кучу вонючего еврейского дерьма о Европиде и еще надеешься, что я вляпаюсь, пытаясь выдать его за свое.
— Это — ложь. Я сделал для вас все возможное. Когда вы нанимаете человека, чтобы писать для вас курсовую, вы должны быть готовы к тому, что могут быть определенные…
— Сколько ты писал? Пятнадцать минут?
— Восемь часов, а может десять, — говорю я. — Знаете, что вы пытаетесь сделать, Лумумба? Вы переворачиваете на меня расизм. То еврейское, это еврейское. Если вы так не любите евреев, почему не дали писать курсовую черному? Почему сами не написали? Я сделал работу честно. И не хочу слышать, как ее превращают в вонючее еврейское дерьмо. Говорю вам, если вы сдадите ее, то получите проходной балл наверняка, в крайней случае Б+.
— Да я вылечу.
— Нет. Нет. Вы просто меня не поняли. Позвольте я объясню. Дайте-ка мне на минутку работу и я зачитаю пару строчек — может, станет яснее… — Поднявшись на ноги, я протягиваю руку к бумагам, но он улыбается и поднимает их высоко над головой. Чтобы достать их, мне понадобилась бы стремянка. Прыгать просто бесполезно. — Дайте, опустите, не шутите со мной! Дайте мне их! — кричу я. Он разжимает руку и шесть листочков разлетаются. Ветер гонит их к востоку вдоль здания университета. Даже умирая, я буду их видеть. Я сжимаю кулаки, меня охватывает яростное негодование. Хочется врезать по его насмешливой физиономии. — Не нужно было этого делать, — говорю я. — Не нужно было их выбрасывать.
— Ты должен вернуть мне пять баксов, парень.
— Держи карман шире. Я честно выполнил свою работу и…
— Ты говорил, что если работа будет плохой, то ты не возьмешь плату.
О'кей, работа — дерьмо. Никакой платы. Отдай мне пятерку.
— Это нечестная игра, Лумумба. Ты хочешь наколоть меня.
— Кто кого накалывает? Кто не отдает деньги? Я? Ты. Что мне теперь делать с курсовой? Нести не готовую — и это твоя вина. А если меня из-за этого выпрут из команды? А? Что тогда? Слушай, парень, меня от тебя тошнит. Отдавай мне пятерку.
Неужели он говорит серьезно? Не знаю. Мысль о том, что нужно отдавать обратно деньги, вызывает у меня отвращение не только потому, что я потеряю деньги. Хотел бы почитать его мысли, но не могу: я полностью блокирован.
Буду блефовать.
— Какого черта ты все перевернул с ног на голову? Я сделал свое дело. Я ни черта не дам тебе, какие бы причины ты ни придумывал. Эту пятерку я оставлю себе. Хотя бы пятерку.
— Отдавай мои деньги, парень.
— Убирайся к черту.
Я хочу уйти. Он хватает меня — его руки, охватившие меня, наверное такой длины, как мои ноги, — и притягивает к себе. Он начинает трясти меня. Зубы у меня стучат. Его улыбка еще шире, чем обычно, но глаза прямо демонические. Я размахиваю кулаками, но его руки так длинны, что я не могу достать его. Я начинаю орать. Собирается толпа. Внезапно нас окружают трое или четверо парней в университетских куртках — все черные, все гиганты, хотя и не такие большие, как Лумумба. Товарищи по команде. Смеются, кричат. Я для них игрушка.