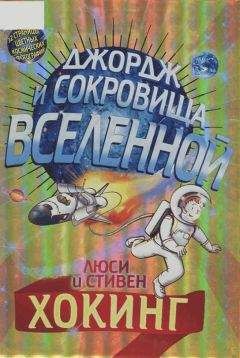Стивен Кинг - Долгая прогулка
— Так точно, улавливаю, — сказал Гэррети.
Впереди. на обочине стоял белый универсал с надписью МОБИЛНОВОСТИ на борту. Когда Идущие подошли поближе, лысеющий мужчина в лоснящемся костюме начал быстро снимать их репортерской кинокамерой. Пирсон, Абрахам и Дженсен одновременно схватились каждый за свою промежность левой рукой, а правой показали камере нос. Было в синхронности этого акта неповиновения что-то от The Rockettes[37]; Гэррети был поражен.
— Я плакал, — продолжил МакФриз. — Рыдал как дитя. Я упал на колени, держал край её юбки и умолял о прощении, а кровь лилась себе на пол, и это была, в общем, отвратительная сцена, Гэррети. Она вырвалась и убежала в ванную. Там ее вырвало. Я слышал, как она блевала. Потом она вышла и вынесла полотенце, чтобы я приложил к ране. Сказала, что больше не хочет меня видеть. Она плакала. Спрашивала, зачем я так с ней поступаю, зачем причиняю такую боль. Говорила, мол, у меня нет права. Так все и было, Рей — я перед ней с изуродованным лицом, и она спрашивает, зачем я причиняю боль ей.
— Ага.
— Я ушел, прижав полотенце к ране. Мне наложили двенадцать швов, и вот она, история знаменитого шрама, и разве ты не счастлив?
— Ты встречался с ней после этого?
— Нет, — ответил МакФриз. — Да мне не особо и хотелось. Сейчас она кажется мне такой маленькой, такой далекой, не больше какого-нибудь пятнышка на горизонте. У нее реально было что-то с головой, Рей. Почему-то... её мать возможно, её мать страшно пила... почему-то она зациклилась на деньгах. Она была по-настоящему скупой. Говорят, со стороны виднее. Вчера утром Присцилла была очень важна для меня. Теперь она ничто. Эта история, которую я сейчас тебе поведал, я думал, она причинит мне боль. Но нет. К тому же, сомневаюсь, что все это действительно имеет отношение к тому, почему я здесь. Просто некоторое время она служила мне удобным самооправданием.
— Что ты имеешь в виду?
— Почему ты здесь, Гэррети?
— Я не знаю.
Голос механический, словно кукла говорит. Фрики Д'Алессио не мог увидеть летящий на него мяч — что-то с глазами, проблемы с восприятием глубины — и мяч впечатался ему в лоб, оставил на нем клеймо. А потом... (или раньше... все прошлое перемешалось и продолжало перемешиваться у него в голове) он ударил своего лучшего друга прикладом воздушки по губам. Может у него тоже был шрам после этого, как у МакФриза. Джимми. Они с Джимми игрались в доктора.
— Не знаешь, — сказал МакФриз. — Ты умираешь, и не знаешь зачем.
— Когда ты умер, причины уже не важны.
— Может и так, — сказал МакФриз, — но есть кое-что, что тебе стоит знать, Рей, дабы всё это не выглядело совсем уж бессмысленно.
— И что же?
— Ну как что — тебя одурманили. То есть, ты хочешь сказать, ты не знал этого, Рей? Что, правда не знал?
Глава девятая
Очень хорошо, северозапад, а теперь ваш случайный вопрос на десять очков.
Аллен Людден, Кубок Коледжа[38]В час дня Гэррети провел новую инвентаризацию.
Сто пятнадцать миль позади. До Олдтауна осталось сорок пять миль; до Огасты, столицы штата, — сто двадцать пять; до Фрипорта — сто пятьдесят (может больше... Гэррети ужасно боялся, что между Огастой и Фрипортом может оказаться больше двадцати пяти миль), и, наконец, до границы Нью Хэмпшира — около двухсот тридцати. И все Идущие были уверены, что Прогулка может зайти и дальше.
Довольно долгое время — часа полтора, а может и больше — никто не получал билетов. Глазу нечему было радоваться — кругом простирался однообразный хвойный лес; бесконечные приветственные крики навязли в ушах. В левой икре у Гэррети возникла новая разновидность боли, которая замечательно дополнила ставшую уже привычной тяжелую пульсацию в обеих ногах, а ступни... ступни по-прежнему поджаривались на медленном огне.
Около полудня — жара уже почти достигла своего максимума — винтовки снова напомнили о себе. Парень по имени Тресслер, номер 92, получил солнечный удар, потерял сознание и был застрелен. Еще один конвульсивно проглотил язык, упал на четвереньки и пополз назад, издавая мерзкие звуки — так его и обилетили. Номеру первому, Ааронсону, свело судорогой обе ноги, и остался на разделительной линии, подняв лицо к солнцу и странно искривив шею. А без пяти час еще один парень, чьего имени Гэррети не знал, тоже пал жертвой солнца.
И вот здесь понятной стала моя роль, думал Гэррети, обходя судорожно дергающееся под прицелом винтовок, бормочущее невнятицу тело. Он четко разглядел бисеринки пота в волосах измученного, обреченного парня. Да, здесь моя роль стала ясна, и что же, можно мне уже уйти?
Грохнули выстрелы, и несколько старшеклассников, отдыхавших в скудной тени скаутской палатки, захлопали в ладоши.
— Хоть бы Мейджор объявился что ли, — зло сказал Бейкер. — Хочу увидеть Мейджора.
— Как-как? — машинально переспросил Абрахам. Он значительно осунулся за последние несколько часов: глаза глубоко запали, сизая щетина резко оттеняла подбородок.
— Хочу нассать на него, — сказал Бейкер.
— Расслабься, — сказал Гэррети. — Просто расслабься.
Он уже избавился от всех трех своих предупреждений.
— Сам расслабляйся, — сказал Бейкер. — Посмотрим, что из этого выйдет.
— У тебя нет права ненавидеть Мейджора. Он же тебя не заставлял.
— Не заставлял? Он меня НЕ ЗАСТАВЛЯЛ? Да он УБИВАЕТ меня, всего-то-навсего!
— И все же...
— Заткнись, — оборвал его Бейкер, и Гэррети заткнулся.
Он потер ладонью шею и заглянул в бело-голубое небо. Тень болталась у него под ногами бесформенным пятном. Он потянулся к третьей за день фляге и осушил ее до конца.
— Извини, — сказал ему Бейкер, — я не собирался орать на тебя. Просто мои ноги...
— Забудь.
— Мы все такими становимся, — сказал Бейкер. — Иногда мне кажется, что это самое худшее.
Гэррети прикрыл глаза. Ему ужасно хотелось спать.
— Знаете, что бы я сейчас сделал? — спросил Пирсон. Он шел между Бейкером и Гэррети.
— Нассал на Мейджора, — сказал Гэррети. — Все хотят нассать на Мейджора. Когда он появится в следующий раз, мы все накинемся на него, стащим на землю, расстегнем свои ширинки и утопим его...
— Нет, я не об этом, — сказал Пирсон. Он стал похож на человека в последней стадии добровольной алкогольной интоксикации. Его голова легко болталась туда-обратно, как у кивающей собаки. Веки поднимались и опускались словно взбесившиеся жалюзи. — Мейджор тут вообще не при чем. Я просто хочу выйти на поле, лечь на землю и закрыть глаза. Просто лечь на спину посреди пшеничного поля...
— В Мэне нет пшеницы, — сказал Гэррети. — Это просто трава.
— ... ну в траву, не важно. И пока засыпаю — сочинить стихотворение.
Гэррети обшарил свой новый пояс с едой, но почти все кармашки уже были пусты. Наконец, ему удалось обнаружить пакетик соленых крекеров, которые он и принялся поедать, запивая водой.
— Я словно решето, — сказал он. — Стоит глотнуть воды, и через две минуты она уже выступает на коже.
Снова прогремели выстрелы, и еще один из Идущих некрасиво рухнул на землю, — усталый чертик-из-коробочки.
— Сорог пядь, — сказал Скрамм, присоединяясь к ним. — Дакими демпами мы и до Пордленда не дойдеб.
— Как-то ты нехорошо звучишь, — сказал Пирсон, и вполне возможно, что в его голосе на самом деле можно было расслышать осторожную надежду.
— Хорошо, что я тагой крепгий, — бодро сказал Скрамм. — Болезнь, похоже, одсдупаед.
— Господи, да как ты вообще идешь? — несколько даже благоговейно спросил Абрахам.
— Я? Ты обо мне говоришь? — сказал Скрамм. — Посмодри на нево! Как он вообще идед? Вод что индересно! — и он ткнул пальцем в Олсона.
Олсон ничего не говорил уже часа два. Он не притронулся к свежей фляге. Окружающие бросали алчные взгляды на его пояс с концентратами, который также был цел. Его черные обсидиановые глаза смотрели прямо перед собой. Двухдневная щетина придавала ему болезненно-хитрый вид. Прическа дополняла этот малоприятный образ: на затылке волосы у него стояли торчком, а на лбу наоборот — словно слиплись. Пересохшие губы сморщились и обветрились. Язык лежал на нижней губе, напоминая дохлую змею на выступе пещеры. Здоровый румянец давно исчез: теперь его кожа, покрытая дорожной пылью, была мертвенно-серого цвета.
Он там, думал Гэррети, конечно там, где же еще. Там, куда, по словам Стеббинса, попадем мы все, если будем слишком долго об этом думать. Насколько глубоко в себе он завяз? Фатомы[39]? Мили? Световые годы? Насколько глубоко и насколько темно там? И ответ пришел: чересчур глубоко, — ему уже не выглянуть наружу. Он спрятался там, в темноте, и спрятался слишком хорошо, чтобы суметь вернуться обратно.