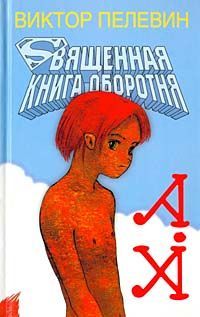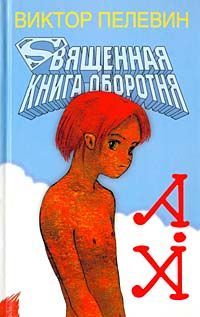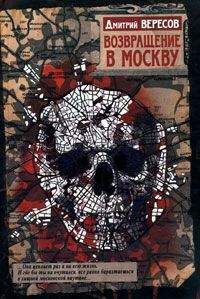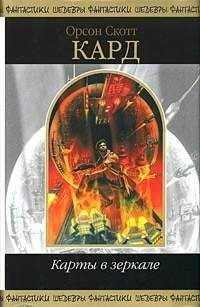Виктор Пелевин - Священная книга оборотня
Последнюю тысячу лет стиль И Хули не менялся — это был предельный радикализм, замаскированный под утилитарную минималистичность. Я завидовала ее смелому вкусу — она всегда опережала моду на полшага. Мода циклична, и за долгие столетия сестренка И наловчилась кататься на волнах этих циклов с мастерством профессионала по серфингу — каким-то чудом она постоянно находилась в точке, угадать координаты которой пытаются все дизайнеры одежды.
Вот и сейчас на ней была умопомрачительная жилетка, похожая на огромный патронташ со множеством разноцветных накладных карманов, расшитых арабской вязью и оранжевыми словами «Ka-Boom!». Это была вариация на тему пояса шахида — каким его сшил бы японский дизайнер-либертен. Вместе с тем вещь была очень удобной — сумка обладателю такой жилетки была ни к чему.
— Не слишком ли смело для Лондона? — спросила я. — Никто не возмущается?
— Что ты! У англичан все силы духа уходят на лицемерие. На нетерпимость не остается.
— Неужели все так мрачно?
Она махнула рукой.
— Лицемерие по-английски «hypocrisy». Я бы ввела новый термин — «hippopocrisy», от «гиппопотам». Чтоб обозначить масштабы проблемы.
Я терпеть не могу, когда дурно отзываются о целых нациях. По-моему, так поступают или неудачники, или те, у кого нечиста совесть. Неудачницей сестричку И никак не назовешь. Но вот насчет совести…
— А почему бы тебе первой не перестать лицемерить? — спросила я.
— Тогда это будет цинизм. Еще неизвестно, что хуже. В общем, в чулане темно и сыро.
— В каком чулане?
— Я про английскую душу. Она напоминает мне чулан. Или как это правильно перевести… closet. Лучшие из англичан всю жизнь стремятся оттуда выйти, но удается это, как правило, только в момент смерти.
— Откуда ты знаешь?
— Как откуда? Вижу изнутри. Я ведь сама англичанка. Ну, конечно, не до конца — примерно как ты русская. Ведь можно сказать, что ты русская?
— Пожалуй, — согласилась я и тихонько вздохнула.
— А на что похожа русская душа?
Я задумалась.
— На кабину грузовика. В которую тебя посадил шофер-дальнобойщик, чтобы ты ему сделала минет. А потом он помер, ты осталась в кабине одна, а вокруг только бескрайняя степь, небо и дорога. А ты совсем не умеешь водить.
— А шофер еще в кабине, или…?
Я пожала плечами.
— Это у кого как.
— Да, — сказала И Хули. — Выходит, то же самое.
— Что то же самое? — не поняла я.
— У нас пословица есть. «Everybody has his skeleton in the closet»[17]. Это лорд Байрон сказал. Когда понял, что задушил в себе гомосексуалиста.
— Бедняга.
— Бедняга? — И Хули подняла брови. — Ничего ты не понимаешь. Он этого гомосексуалиста в себе всю жизнь истязал и мучил, а задушил только перед самой смертью, когда понял, что сам скоро коньки отбросит. А все его стихи и поэмы, оказывается, на самом деле написал этот гомосексуалист. Два американских ученых доказали, сама читала. Вот какие в Англии люди! Лучше уж ваш мрачняк в кабине.
— Почему мрачняк? По-моему, в этом много красоты.
— В чем? В скелете рядом?
— Нет, — ответила я. — В русской душе. Представь, ты совсем не умеешь водить, а вокруг степь и небо. Я люблю Россию.
— А что именно ты в ней любишь?
Некоторое время я обдумывала этот вопрос. Потом не очень уверенно ответила:
— Русский язык.
— Ты правильно делаешь, — сказала И Хули, — что внушаешь себе это чувство. Иначе тебе было бы невыносимо тут жить. Как мне в Англии.
Она по-кошачьи потянулась, поглядела вдаль, и в ее глазах мелькнуло что-то лениво-мечтательное. Мне вдруг померещилась хищная острозубая пасть на месте ее лица, как бывает на двадцать пятом кинокадре. Я захотела сказать ей какую-нибудь легкую колкость.
— По-моему, это ты внушаешь себе, что живешь среди лицемеров и извергов.
— Я? Зачем бы я стала это делать? — спросила она.
— Говорят, никто не может совершить убийства, не приписав своей жертве какого-нибудь дурного качества. Иначе совесть замучает. А когда убийства следуют одно за другим, эти качества удобно распространить на всю target group. Не так пугает воздаяние.
По лицу И Хули пробежала тень.
— Это мораль? — спросила она. — Даже некоторые люди понимают, что в реальности нет ни добра, ни зла. А мы с тобой лисы. После смерти нет ни воздаяния за зло, ни награды за добродетель, а только общее для всех возвращение к великому пределу у Желтого Источника. Остальное придумали для того, чтобы держать народ в подчинении и страхе. О чем ты говоришь?
Я поняла, как глупо себя веду — злю сестру, с которой хочу посоветоваться. Кто я такая, чтобы в чем-то ее упрекать? Разве я хоть на йоту лучше? Если я действительно считаю себя лучше, значит, я еще хуже. Надо было свести все к шутке.
— Какие мы серьезные, — сказала я игриво. — Вот к чему ведет многолетнее сожительство с бесхвостой обезьяной. Ты даже рассуждать стала совсем как они.
И Хули несколько секунд недоверчиво глядела на меня, хмуря пушистые брови. Ей это очень шло. Потом она улыбнулась.
— Значит, решила надо мной посмеяться? Теперь не поворачивайся ко мне задом…
У лис эта фраза основана на несколько иных референциях, чем у людей, но общее значение примерно то же. Я и не собиралась поворачиваться к ней задом, тем более что она действительно могла дернуть за хвост — в пятнадцатом веке такое уже произошло, я до сих пор помню. Но эта фраза неожиданно напомнила мне о последнем свидании с Александром. Я покраснела. Это не укрылось от сестрички И.
— Ого, — сказала она, — ты все так же краснеешь, как тысячу лет назад. Даже завидно. Как тебе удается? Для этого, наверно, надо быть девственницей?
Самое интересное, что я краснею только в компании других оборотней. А при общении с людьми такого не бывает. Очень жаль — можно было бы сильно поднять тариф.
— А я уже не девственница, — сказала я и покраснела еще сильнее.
— Неужели? — От изумления И Хули откинулась на спинку дивана. — Давай-ка рассказывай!
Мне уже давно не терпелось поделиться своей историей — и следующие полчаса ушли у меня на то, чтобы выложить переполнявшее мою душу.
Пока я рассказывала подробности своего головокружительного affair, И Хули хмурилась, улыбалась, кивала, а иногда даже поднимала вверх палец, словно чтобы сказать: «Ага! А сколько раз я тебе говорила!» Когда я закончила, она сказала:
— Ну вот. Значит, и с тобой это все-таки случилось. Тысячей лет раньше, тысячей лет позже… Какая разница? Поздравляю.
Я взяла со столика салфетку, свернула в бумажный шарик и бросила в нее. Она ловко увернулась.
— Все-таки великая вещь жизненный опыт, — сказала она. — Разве мыслимо было такое в дни нашей юности? Ты его так профессионально спровоцировала, что даже непонятно, кто кого изнасиловал.
— Что? — от изумления у меня открылся рот.
Она ухмыльнулась.
— Хотя бы перед своими не надо строить оскорбленную невинность.
— О чем ты? Когда я его спровоцировала?
— Когда выскочила голая из ванной и встала перед ним раком.
— Ты считаешь это провокацией?
— Конечно. Зачем ты, спрашивается, развернулась к нему задом?
Я пожала плечами.
— Для надежности.
— А что в этом особенно надежного?
— Хвост ближе к цели, — сказала я не совсем уверенно.
— Ну да. А глядеть надо через плечо. Скажи честно, ты когда-нибудь раньше так делала для надежности?
— Нет.
— А почему вдруг решила начать?
— Мне… Мне просто показалось, что это очень ответственный случай. И я не могу позволить себе упасть на обе лопатки. В смысле, в грязь лицом.
И Хули расхохоталась.
— Слушай, — сказала она, — неужели ты действительно все проделала в бессознательном режиме?
Мне определенно не нравилось, куда движется разговор.
— Я знаю, как ты к этому относишься, — продолжала она, — но если ты поговоришь с хорошим психоаналитиком, ты сразу поймешь свои подлинные мотивы. С аналитиком, кстати, можно говорить не стесняясь, о чем хочешь, — за это ему и платят. Про хвост, конечно, необязательно рассказывать. Хотя можно и сказать, типа как о фантазии. Но тогда пропускай все, что он будет тебе говорить о penis envy[18]…
Открыть подруге душу и услышать такое… Я разозлилась.
— Слушай, — сказала я, — а тебе не кажется, что весь этот психоаналитический дискурс давно пора забить осиновым колом в ту кокаиново-амфетаминовую задницу, которая его породила?
Она выпучила глаза.
— Так, насчет амфетаминов понимаю. Я все-таки с Жан-Поль Сартром два года дружила, если ты не в курсе. И про задницу понимаю, по той же самой причине. А вот кокаин тут при чем?
— Могу объяснить, — сказала я, радуясь, что разговор уходит от скользкой темы.
— Ну объясни.
— Доктор Фрейд не только сам сидел на кокаине, он его пациентам прописывал. А потом делал свои обобщения. Кокаин — это серьезный сексуальный возбудитель. Поэтому все, что Фрейд напридумывал — все эти эдипы, сфинксы и сфинкторы, — относится исключительно к душевному измерению пациента, мозги которого спеклись от кокаина в яичницу-глазунью. В таком состоянии у человека действительно остается одна проблема — что сделать раньше, трахнуть маму или грохнуть папу. Понятное дело, пока кокаин не кончится. А в те времена проблем с поставками не было.