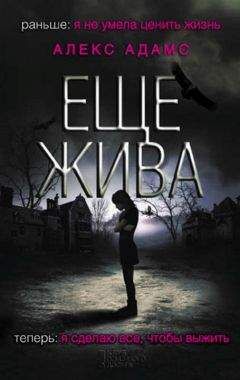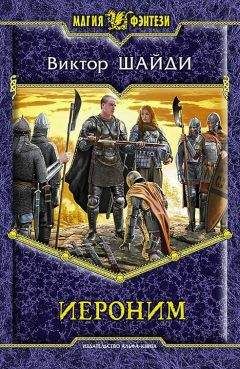Алекс Адамс - Еще жива
– Пожалуйста.
– Мне очень жаль, но я не хочу никому из нас причинять боль.
Или хуже того.
– Но мой папа будет мною гордиться, если болезнь назовут моим именем. Я стану хорошим, не таким, как все, и буду что-то значить.
Электричка замедляет ход. Я вешаю сумку на плечо, берусь за ремень другой рукой, тем самым как бы закрываюсь от его дальнейших вопросов.
– Сожалею.
Последнее, что я вижу, взглянув через плечо, – его лицо, прижатое к стеклу окна. Он смотрит прямо мне в душу, которую я так тщательно оберегаю.
Я занимаюсь своими делами, убираю, разговариваю с мышами, наблюдаю за ними на предмет признаков надвигающейся смерти. Я не даю им имен, хотя тот малютка с загнутыми усиками в углу клетки требует чего-то большего, чем просто номер.
Я наблюдаю за мышами и задаюсь вопросом, может ли так быть, что опыты не ограничиваются этими клетками.
У моей паранойи свой ход мыслей.
«Ты знаешь, что хочешь этого», – говорит голос Ника в моей голове.
– Не сейчас.
Он замолкает. Пожалуйста, пусть сегодня будет не тот день, когда я увижу его фамилию в списке.
Я натягиваю джинсы, надеваю туфли, накидываю плащ. Все равно я дрожу, когда уличная прохлада пробирается к моему телу. Я сжимаю в ладони две обжигающие холодом двадцатипятицентовые монеты. Они со звоном проваливаются в автомат по продаже газет, и я натягиваю рукав на ладонь, чтобы открыть его и достать газету.
Городская газета отсутствует, на ее месте «Юнайтед Стейтс таймс». В моем сознании возникает Джесс, парень, который хочет быть всего лишь «хорошим».
Под ногами мелькают ступеньки. За спиной со стуком захлопывается входная дверь моей квартиры. Я сгребаю еще двадцатипятицентовых монет и снова выбегаю на улицу.
Я всовываю по две монеты в другие автоматы, в которых должны быть газеты со всей страны. Я должна посмотреть, я должна узнать, есть ли там другие издания. Но везде теперь одна газета – «Юнайтед Стейтс таймс». Эта доведенная до опасной степени концентрация прессы бросает меня в активную деятельность. Я не делаю ничего, в то время как нужно делать хоть что-нибудь.
Вернувшись в свое убежище, я изучаю газету. Я просматриваю страницы, как гадалка изучает сплетение внутренностей, пытаясь получить знак к дальнейшим действиям. Но это только газета, ничего более. Она, как и все прочие, громким названием заявляет о себе. И ничего в ней не кричит о том, что она за одну ночь лишила нас выбора, уничтожив конкуренцию. На обложке все то же самое, что мы видели много раз: выигранные сражения, радостные лица, командиры, гордые за успехи своих подчиненных. И на двенадцать некрологов больше, чем во вчерашней газете.
Шкаф в прихожей виднеется в неясном свете. Его чисто-белая окрашенная поверхность темнеет, когда я наделяю его свойствами, которых он не может иметь: темный, зловещий, угрожающий.
Я подскакиваю от раздавшегося телефонного звонка.
– Мы зафиксировали сигнал тревоги в вашем жилище. Вам нужна помощь?
Я забыла о сигнализации. Черт.
– Нет, нет, все в порядке. Я просто несла… пакеты с продуктами.
– Назовите, пожалуйста, код.
Я называю контрольный код, и подтверждающий код, и девичью фамилию своей матери.
Удостоверившись, что я не злоумышленница, они включают заново систему сигнализации, и я запираюсь.
Я стою перед шкафом, протянув руки к дверным ручкам.
– Я готова, – говорю я Нику-в-моей-голове.
Обмотанная упаковочной лентой картонная коробка, которую я тут спрятала, по-прежнему на месте. Она между искусственной рождественской елкой, которую я храню, потому что ненавижу втаскивать настоящую вверх по лестнице (правила этого здания запрещают пользоваться лифтом), и стопкой скопившихся за долгие годы Библий, которые мне вручали люди, считающие, что мою душу необходимо спасать. Не решаясь выкинуть Библии из-за суеверного страха, я держу их для того, чтобы предъявить тем, кто вздумает мне всучить очередную. Но мой план оказался не безупречным. На прошлое Рождество Джеймс подарил мне детскую Библию, иллюстрированную зубастыми персонажами, как в комиксах.
Я отвожу взгляд, прежде чем начинает печь глаза.
Я сажусь на пол, широко расставив ноги, и придвигаю к себе коробку. Она ничего такого особенного не представляет. Вполне обычная коробка, по правде говоря. По существу, ничего устрашающего в картонной коробке, обмотанной скотчем, нет. Если бы кто-нибудь увидел, как я ее тащу на почту, то решил бы, что это тщательно упакованная посылка для хорошего друга. Только ее содержимое придает ей зловещий характер смертоносной тайны.
У меня созрел план. Он зародился в моей голове еще в электричке, в тот момент, когда ко мне подошел Джесс, но человеческий ум способен великолепно утаивать информацию от самого себя. Обрывочные мысли околачиваются по редко посещаемым углам нашего сознания, пока что-либо не спровоцирует их выпрыгнуть из тени.
«Юнайтед Стейтс таймс». Джесс. Его лицо, прижатое к оконному стеклу электрички, и взгляд, в первый раз направленный мне в глаза и подталкивающий меня сделать что-нибудь большее, чем мытье полов и чистка клеток.
Ножницы разрезают скотч, оставляя неровные края. Новый моток лежит рядом со мной, готовый занять место старого, как только я сделаю то, что должна сделать.
Глубокий вдох.
Поднимаю крышку.
Набираю пригоршню черепков полиэтиленовым пакетом. Сначала запечатываю пакет, затем коробку. Ногой заталкиваю ее на свое место в шкафу.
Теперь я готова сделать что-либо большее.
СейчасШвейцарец припер меня к борту на палубе.
– Твоя глупая подруга хочет сделать аборт.
– Нет, она не хочет.
– Кто ты такая, чтобы решать за нее? Это что, не ее тело? Американцы! Каждая жизнь для них священна, кроме тех, которые они не пекутся защищать, потому что кое-где нет полезных ископаемых.
– Я не даю оценок с позиций нравственности. Я беспокоюсь о ее благополучии. В нашем распоряжении нет инструментов и помещения, достаточно чистого и безопасного для проведения любого вида хирургического вмешательства. Даже вскрытие нарыва сейчас представляет опасность. Я ей об этом говорила.
– Если мы наткнемся на больницу, там будут антибиотики.
– Ты не можешь этого знать.
– Я знаю больше тебя о многих вещах.
Ярость волной прокатывается внутри меня, мобилизуя силы. Я хочу схватить его за горло и сдавить, но не делаю этого. Однако в следующее мгновение я резко выставляю локоть вперед и вверх, прямо в его подбородок. Он, качнувшись назад, валится неуклюжим мешком. Секунду он лежит так, дергая конечностями, как лобстер, которого только что вытащили из его соленой обители.
Никто не сделал и малейшего движения, чтобы помочь ему. Люди просто отвели глаза, не желая ввязываться. Кто их может винить за это? Наименее привлекательная сторона человеческой сущности показывала свою личину слишком долго, и я тоже внесла в это свой вклад. Стыд сжигает меня. Мне бы следовало сдержаться, но швейцарец зашел достаточно далеко в отношении Лизы.
Он резко переворачивается, вскакивает на ноги.
– А что будет, когда она родит ребенка? Что тогда произойдет? Что произойдет, когда ты родишь своего?
«Помоги мне», – молю я океан, небеса и весь мир между ними. Я не знаю, что делать.
ТогдаУ Парфенона в Афинах есть много более дешевых и мелких собратьев, разбросанных по миру; способность человека творить столь же ограничена, сколь и безгранична. Одно такое здание приютило Национальный музей, где Джеймс и Рауль когда-то перебирали черепки. То, что было всего лишь топотом моих ботинок на тротуаре, теперь превратилось в гулкие удары по мраморным плитам в почти пустом холле. Единственным, кто находится здесь, является девушка, сидящая за конторкой. Из-за развернутых створок обложки и твердого корешка Библии видны лишь ее глаза.
– Ах, – выдыхает она, словно удивляясь, что кто-то по собственной воле решил зайти в музей. – Здравствуйте.
Она встает, разглаживает брюки, улыбается так, будто забыла осуществить некие важные действия, которые входят в ее обязанности.
– Я должна сказать: «Добро пожаловать в Национальный музей», но, по правде говоря, я сегодня никого не ожидала. К нам уже целую неделю никто не приходил. Только служащие, а они обычно пользуются служебным входом с задней стороны, потому что там у нас парковка.
Она наваливается на полированную мраморную столешницу конторки и шепчет:
– Я, вообще-то, не должна этого делать, но вы можете пройти бесплатно. Обычная цена входного билета – десять долларов, за исключением вторников, когда вход свободный, но я не думаю, что десять долларов смогут существенно помочь музею. Музей перестает быть музеем, если его никто не посещает. Так что, если кто-то полюбуется нашей коллекцией, уже будет хорошо. Вы пришли, чтобы посмотреть что-либо конкретное?