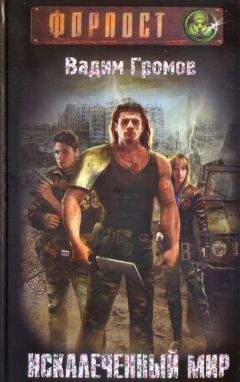Макс Сысоев - Странники
— По-вашему, он может такое?
— Не знаю... Если в алгоритме не было ошибок, если система действительно может усложняться до бесконечности, если он не столкнулся в космосе с непреодолимыми препятствиями или с другим богом... Никто толком не знает его судьбу, но этот эксперимент повредил многие умы. Люди поняли, что теперь во Вселенной есть что-то, до чего они точно никогда не дорастут. Культурный шок.
— Он общался с людьми?
— На первых порах общался. Потом перестал. Он стал знать намного больше, чем мы, он оперировал такими категориями, которые никогда не поместятся в наш мозг. Зачем ему с нами общаться? Да и как?
***
Беседуя, мы с Учителем прошли несколько улиц и спустились в овраг, где текла речка Сетунь. «Странно, — подумал я, встав на самом краю её берега, — эта маленькая речка, почти ручеёк, которую городские власти использовали в качестве надземной канализации, которую я в юности на спор переехал вброд на мотоцикле, — она старше египетских пирамид. Она текла здесь, когда люди бегали по лесам с каменными топорами. И продолжает течь, несмотря на конец света». Я поделился своей мыслью с Учителем, а тот ответил:
— Очевидная вещь. Вселенной наплевать, существуем мы или нет.
— А вы, между прочим, всего пять минут назад говорили, что Вселенной не плевать, и люди существовали, чтобы создать бога.
— Про бога ты понял правильно. А о Вселенной я даже не заикнулся. Человек может жить ради создания бога, а Вселенная может на это наплевать.
— Я не понимаю.
— Ты не понимаешь, потому что я говорю словами, не отбрасывающими тени. Чтобы помочь тебе разобраться, надо обратиться к самой основе нашей философии. Впрочем, это давно пора сделать: должен же ты определиться, быть тебе моим Учеником или искать иное место в этом веке.
— Я готов, — сказал я.
— Тогда взываю к твоей памяти. Что мы договорились называть философией?
— Что-то такое, что объясняет, как человеку быть хорошим.
— Отлично, — сказал Учитель. — С этого мы, пожалуй, и начнём. С того, что такое «хорошо» и что такое «плохо».
— Так вот, — сказал он. — Я утверждаю, что абсолютное добро это прогресс.
— Довольно смелое заявление, — отметил я. — Вы живёте среди ужасающих последствий прогресса и говорите, что он — абсолютное добро.
— Вот я тебя и подловил! Это, между прочим, основа потребительской психологии. С детства у нас в голове понятие «прогресс» подменили понятием «технический прогресс». Мы живём среди ужасающих последствий технического прогресса. Помнишь, я сказал тебе, что до конца света многие науки развивались неправильно, и что конец света — самое веское тому доказательство? Так вот, науки развивались неправильно, но в основном это были науки гуманитарные. К технике у меня претензий нет: орудия созидания и особенно разрушения мы научились делать превосходно. Зато человека, как выяснилось, мы не знали и тем более не умели его совершенствовать. Технический прогресс не сопровождался прогрессом во всём остальном. Это было выгодно с точки зрения политики и экономики. Глупые люди и умные машины — старая тема.
Возьмём для примера прежнюю философию. Вопрос о добре и зле назывался у философов «вечным». Но у «вечных» вопросов существует одна интересная особенность: они давным-давно решены, просто правильный ответ затерялся в океане всякой околесицы, порождённой «свободой слова», и никто не может там его отыскать. Вероятно, поэтому-то такие вопросы и называются «вечными». Но мы, сказав, что такое добро, не откроем ничего нового, поскольку задолго до нас люди интуитивно поняли его основные свойства. Нам же остаётся только посмотреть, на чём их интуиция основывалась.
Я подобрал горсть камушков и стал один за другим кидать их в коричневые волны Сетуни.
— Давай, — продолжил Учитель, — давай препарируем нашу Вселенную. Интеллектуально, разумеется. Вот погляди: что у нас у всех общее? Что ждёт в будущем тебя и меня, звёзды и планеты, атомы, государства, машины, — вообще всё на свете? Только одно — распад. Всё в нашей Вселенной стареет, всё движется к гибели. Машины ломаются, батарейки садятся, звёзды коллапсируют, атомы распадаются. А что значит «распадаются»? Значит, из более сложного состояния переходят к более простому. Например, атомы. Представляешь себе таблицу Менделеева? Там есть лёгкие и тяжёлые элементы. В начале таблицы водород — самый простой атом, состоящий всего из двух компонентов: протона и электрона. В конце таблицы — самый сложный атом, уран, состоящий из нескольких десятков компонентов. Атом урана распадается быстро — потому он и радиоактивен. Элементы сложнее урана распадаются вообще за доли секунды. А простые элементы, например кислород, распадаются медленно: за сотни миллионов лет. Но всё равно, все они стремятся стать водородом, самым простым атомом, которому распадаться дальше некуда. И так везде. Механизм превращается в кучку лома, люди — в прах, цивилизации — в руины. Всё стремится из сложного стать простым. Всё — кроме одного. Кроме жизни. Каким-то образом получилось, что, раз зародившись, жизнь не исчезла, но путём многих хитростей производит всё более и более сложные формы, распространяется на всё большие территории. На реке времени получается маленькое завихрение, течение в обратную сторону. Всё распадается — одни мы эволюционируем. Конечно, кроме жизни существуют и другие самоорганизующиеся системы: кристаллы, там, ячейки Бенара, — но их способность самосовершенствоваться ограничена. А жизнь, как мы убедились на примере собственного существования, может развиваться очень и очень долго. Стало быть, эволюция, прогресс — это единственное отличие живой материи от неживой.
— Почему же единственное? Я в изучал этот вопрос и могу назвать навскидку ещё пару-тройку отличий живого от неживого. Живые существа, допустим, могут размножаться. Могут регенерировать. Могут приспосабливаться к окружающей среде.
— Это, — сказал Кузьма Николаевич, — всего лишь способы реализации прогресса. Если бы организмы не могли размножаться, регенерировать и приспосабливаться, они бы и эволюционировать не смогли. И наоборот: не будь в их основу положен прогресс, не было бы у жизни и этих свойств. Давай посмотрим: к чему стремится каждое живое существо?
— Пожрать, поспать и… э-э-э… размножиться.
— В целом, ты прав. Но для чего это нужно? Есть, спать, размножаться?
— Просто так. Бессмысленное существование.
— Вот именно. Единственное, к чему стремится жизнь среди общего распада, — это выжить. Для этого она придумала многообразие форм, для этого она заполнила землю, воду, воздух и чуть не заполнила космос, если бы человечество не погибло. Выжить любыми способами — вот цель жизни. Чем больше способов выжить, тем больше вероятность выжить. А чтобы было больше способов, надо эволюционировать дальше. Придумывать всё более хитрые способы самосохранения. Усложняться и усложняться. На примере паззла мы убедились, что усложнение со временем ускоряется. Поэтому жизнь, как и технология, стремится к экспоненциальному прогрессу. Если мы взглянем на историю развития биосферы, то увидим ту же закономерность, что и в технике: докембрий длился три миллиарда лет, палеозойская эра — триста сорок миллионов лет, мезозойская — двести миллионов; шестьдесят семь миллионов лет назад Земля стала принадлежать теплокровным животным и широколиственным растениям, а два миллиона лет назад появился хомо сапиенс. Очевидно, Технологическая Сингулярность была завершающим этапом Сингулярности Биологической, а наши технологии, несмотря на кажущуюся чужеродность природе, органично вписались в эволюционный процесс. Жизнь стремилась породить всемогущее существо — потому что только всемогущество гарантирует выживание в нашей распадающейся Вселенной — и она такое существо породила. Но когда я говорю «жизнь стремилась», я подразумеваю не осознанное движение, а просто силу, наподобие той, которая тянет плюс к минусу, а падающий предмет к центру массы. Вот именно на основе этих соображений я утверждаю, что прогресс это абсолютное добро, и мы, как бы ни хитрили, чем бы ни занимались, — мы всё делаем ради него одного. Самый сильный инстинкт, заложенный в человека, — это инстинкт прогресса. Много ли ты видел людей, которые останавливаются на достигнутом? Такая ли редкость люди, у которых есть всё, что нужно для жизни, но которые при этом хотят чего-то большего — и они даже сами не знают, чего?
— Нет, — сказал я. — Не редкость. Хотя есть и такие, которые замыкаются в своём панцире и ничего от жизни не требуют — лишь бы их в покое оставили.