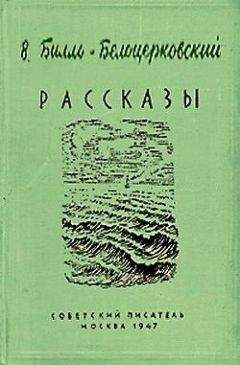Нил Шустерман - Беглецы
Не проходит и секунды, как появляется Соня. Она, должно быть, все это время ждала за прикрывающей дверной проем занавеской. Коннор думает, что она, возможно, слышала, как он всхлипывал, но Соня ничего об этом не говорит. Она берет письмо, взвешивает его на руке и одобрительно смотрит на Коннора, подняв брови.
— Я смотрю, ты нашел, что сказать, — замечает она.
Коннор пожимает плечами. Соня кладет конверт на стол лицевой частью вниз.
— Теперь напиши здесь дату, — предлагает она. — Но не сегодняшнее число. Поставь дату своего восемнадцатилетия.
Коннор больше не задает вопросов, просто делает то, что говорит ему Соня.
— Я сохраню это письмо для тебя, — говорит пожилая женщина. — Если в восемнадцать ты все еще будешь жив, придешь и заберешь его. Обещаешь?
Коннор кивает.
— Да, заберу. Обещаю.
Соня берет письмо и машет им, чтобы показать, насколько важно то, что она говорит.
— Оно будет храниться у меня до наступления дня, указанного на конверте — твоего восемнадцатого дня рожденья. Если ты не придешь за ним, значит, тебя поймали и отправили на разборку. В этом случае я отправлю его сама.
Соня протягивает конверт Коннору и направляется к старому чемодану, стоявшему на крышке люка. Отперев замок, она отбрасывает тяжелую крышку, и Коннор видит груду писем. Сотни, если не тысячи конвертов заполняют чемодан практически доверху.
— Клади сюда, — говорит Соня. — Здесь оно будет храниться, и никто его никогда не увидит. Если я умру прежде, чем ты вернешься, Ханна обещала взять чемодан себе.
Коннор пытается представить себе всех тех, кому помогла Соня. Судя по количеству писем, их было много, очень много. Он чувствует, как вулкан, который, казалось, совсем утих в душе, пробуждается снова. Коннору не хочется плакать, хочется сказать что-то доброе этой замечательной женщине.
— Вы делаете доброе дело.
Соня отмахивается от него, как от мухи:
— Думаешь, я святая? Нет. Я вот что тебе скажу: жизнь у меня была длинная, и зла я в ней сделала немало.
— Да, может быть, но это не важно. Можете треснуть меня этой палкой, но я все равно буду думать, что вы хорошая.
— Может, и так, а может, и нет. Если проживешь столько, сколько я, поймешь, что не бывает однозначно хороших или совсем плохих людей. Всю жизнь каждый из нас лавирует между светом и тьмой. Сейчас я на светлой стороне, и слава богу.
Коннор начинает спускаться, и старушка с огромным удовольствием напоследок шлепает его палкой по заднице. Но Коннор не сердится на нее, ему смешно.
Он не рассказывает Рисе, что ее ждет. Мальчику кажется, что, рассказав ей правду, он как будто лишит Рису части радости, ожидающей ее наверху. Пусть все останется между ней, Соней, бумагой и ручкой, как это было у него.
Уходя наверх, Риса оставляет ребенка на его попечение. Девочка спит, и Коннору кажется, что ничего более утешительного и приятного он в жизни не видел. В это время и в этом месте, держа на руках спящего ребенка, он чувствует, что, подобно Соне, сделал доброе дело, спас чью-то жизнь. Мальчик думает о том, что, если у его души есть форма, то она похожа на ребенка. На девочку, спящую у него на руках.
20. Риса
Когда люк открывается в следующий раз, Риса понимает: что-то в ее жизни снова меняется. Пришло время покидать безопасное убежище в подвале антикварного магазина.
Соня зовет ребят наверх, и Риса поднимается первой. Роланд хотел опередить ее, но Коннор преградил ему путь рукой, как шлагбаумом, и пропустил Рису вперед.
Держа спящую девочку на плече, Риса, крепко схватившись за ржавые перила, поднимается по зазубренным каменным ступенькам наверх. Внизу она почему-то думала, что, поднявшись, увидит за окнами свет, но ошиблась — на дворе ночь. Помещения магазина практически не освещены, горят лишь несколько тусклых ламп в проходах между нагромождениями мебели.
Соня ведет их к черному ходу. За дверью — переулок, в котором стоит грузовик, вернее, грузовичок с рекламой мороженого на борту.
Соня сказала им правду: приехал мороженщик.
Дверь кузова открыта; возле нее стоит водитель. Это небритый, неряшливо одетый мужчина. Судя по его виду, он готов возить не только беглых подростков, но и наркотики или еще что-нибудь похуже. Роланд, Хайден и Маи направляются к машине, но Соня приказывает им подождать.
— Нет, сначала эти двое.
В этот момент Риса замечает, что в тени прячутся два человека. Девочка чувствует, как от страха волоски на шее встают дыбом, но тут один из них делает шаг вперед, и Риса понимает, кто перед ней. Это Ханна, учительница, спасшая их в школе.
— Малышка не может поехать с вами, — говорит Ханна.
Риса рефлекторно прижимает ребенка к себе и сама удивляется этому. С того самого момента, как девочка оказалась у нее, она понимала, что с ребенком на руках выжить будет тяжело, и мечтала избавиться от него.
— Все будет хорошо, — говорит Ханна. — Я поговорила с мужем. Скажем, что нам ее подкинули. С девочкой все будет в порядке.
Риса смотрит Ханне в глаза. На улице темно, но девочка уверена: учительнице можно доверять. Неожиданно Коннор делает шаг вперед и встает между ними.
— Вам действительно нужен этот ребенок? — спрашивает он.
— Она хочет взять его, — говорит Риса. — Этого достаточно.
— Но он вам нужен?
— А тебе он был нужен?
Коннор не знает, что ответить на это. Риса знает, что мальчику ребенок был не нужен, но, поняв, какая жалкая участь его ждет в доме, на крыльце которого он лежал, он захотел взять его себе. Точно так же и Ханна хочет забрать девочку в момент, когда будущее ее неопределенно.
— Ладно, хорошо, — сдается Коннор, делая шаг в сторону грузовичка.
— Мы будем любить ее, как родную, — говорит Ханна.
Передав ребенка учительнице, Риса испытывает громадное облегчение, но вместе с ним приходит и ощущение пустоты. Чувство потери не такое сильное, чтобы разрыдаться, оно похоже, скорее, на фантомную боль в отсутствующих членах, которую испытывают калеки. Так бывает до операции, пока у человека не появилась вновь обретенная рука или нога.
— Береги себя, — говорит Соня, неловко обнимая девочку. — Тебе предстоит пройти долгий путь, но ты справишься, я знаю.
— А куда мы едем? — спрашивает Риса. Соня, по обыкновению, делает вид, что не слышала вопроса.
— Ребята, поторопитесь, — говорит водитель. — К утру мне нужно вернуться.
Риса прощается с Соней, кивает Ханне и идет вслед за Коннором, ожидающим ее у борта грузовика. Заметив ее исчезновение, малышка начинает плакать, но Риса не оглядывается.
Забравшись в кузов, Риса с удивлением обнаруживает, что они не одни — на нее устремляются взгляды не менее десятка пар недоверчивых и испуганных глаз. Роланд по-прежнему крупнее всех, и он немедленно начинает самоутверждаться, заставляя одного из незнакомых парней подвинуться, хотя в грузовике и без того полно места.
Кузов рефрижератора представляет собой стальную, абсолютно голую внутри коробку. Мороженого в нем нет, как нет и самого блока холодильника. Тем не менее внутри прохладно и пахнет кислым молоком. Водитель закрывает двери на замок, и в кузове воцаряется гробовая тишина. Риса больше не слышит плача ребенка, хотя знает, что малышка еще не успокоилась. Ей кажется, что она слышит голос девочки даже после того, как водитель запер дверь, но потом понимает, что это плод ее воображения.
Водитель старается держаться задворков — это ясно по тому, как раскачивается кузов. Дети прижимаются к кузову спиной, но на ухабах так трясет, что они порой подлетают в воздух, как теннисные мячи.
Риса закрывает глаза. Она сердится на себя за то, что скучает по ребенку. Девочка попала к ней, возможно, в худший момент ее жизни, была ей обузой — так почему Риса должна по ней скучать? Девочка вспоминает о том, что было до Хартландской войны, когда нежеланных детей не было — можно было просто сделать аборт. Что чувствовали тогда женщины, избавившись от плода? То же, что и она? Облегчение от того, что нежеланный ребенок не появится на свет, что не придется отвечать за маленькое существо, которое было им не нужно? Или смутно жалели о содеянном, так же, как она?
Риса думала о подобных вещах, еще когда жила в интернате и получала назначение на дежурство в детском отделении. В огромном зале стояли сотни одинаковых кроваток, и в каждой лежал ребенок, оказавшийся не нужным своим родителям. Эти малыши становились обузой для государства, которому с трудом удавалось выкормить их, не говоря уже о том, чтобы утешить и воспитать надлежащим образом.
«Нельзя изменить закон, не изменив сначала человеческую натуру», — часто повторяла одна работавшая там медсестра, присматривая за ордой плачущих младенцев. Ее звали Гретой. Всякий раз, когда Грета отваживалась на какое-нибудь крамольное замечание, в пределах слышимости оказывалась другая медсестра, лояльная к существующим порядкам. «Нельзя изменить человеческую натуру, не изменив сначала закон», — говорила она. Медсестра Грета не возражала, только укоризненно вздыхала и возвращалась к работе.