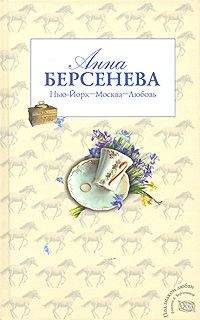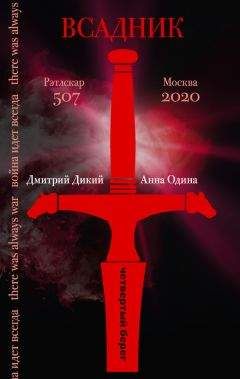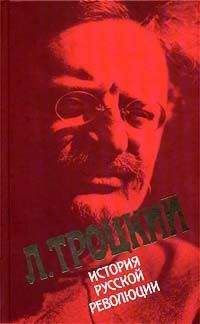Анна Одина - Амфитрион
– Вы думаете, это для них так важно? – вопреки здравомыслию Митя вдруг заартачился. – Мне кажется, при наличии нормальной легенды…
– Жизнь, безусловно, совместима с легендами, но вот легенды с жизнью – не всегда, – заметил генеральный директор. – В той ситуации, которую вы предлагаете смоделировать, на определенном этапе обнаружить вас, удостовериться, что они имеют дело с настоящим человеком, станет для них делом чести.
«Настоящий человек» вздохнул. Мир внезапно оперативно перекрасился в оттенки серого.
– Вы правы. Что ж, план не имеет смысла?.. Не делать же пластическую операцию.
– Конечно, нет, – подтвердил Страттари. – О если б люди только помнили: нет таких дел, ради которых можно потерять лицо! – Он вздохнул, как будто имел в виду что-то болезненно конкретное. – Но есть и другие способы.
Митя поднял взгляд, уже успевший под собственной тяжестью опуститься к полу, на Страттари. Генеральный директор смотрел на него в упор, и Митя вдруг поймал себя на том, что ищет у того в глазах что-то, чего там не хватает или вообще нет.
– Другие способы?..
11. Как правильно потерять лицо
Тогда произошло вот что: сова перевела взгляд на Митю, на Страттари и, повинуясь какому-то невидимому сигналу, взлетела в воздух и с налету, прицелившись, перевернула цепкими когтями кадку с водой. Горячая вода разлилась по всему полу, угли рассыпались, Митя в ужасе вскочил на ноги, но все тотчас изменилось. Они теперь были не в кабинете и вообще не в здании, а в лодке. Говоря по совести, был Митя в лодке один, да еще стояла на носу какая-то молчаливая фигура, облаченная в длинный темный балахон. Было светло. Лодка плыла, безмятежно рассекая спокойные воды, и лишь иногда поскрипывала.
– Где я? – спросил Митя непонятно у кого и не надеясь особенно на ответ. Как всегда бывает, когда делаешь что-то без уверенности в результате, реакции не последовало. Митя вздохнул и сиротливо сложил руки на коленях. Вдруг какое-то мельтешение привлекло его внимание, и он стал всматриваться в воду за бортом. Водоем был спокоен и чист – не было в нем ни рыб, ни водорослей, ни крабов или медуз. Но что-то все-таки виделось Мите на глубине, на некотором отдалении, как будто песчаное дно этого странного вместилища воды – озера или моря, Митя не знал, – было украшено большими вкраплениями перламутра, и чем дальше они плыли, тем ближе к Мите поднималась непонятная мерцающая поверхность. Устав вглядываться, Митя решил, что все равно не сможет повлиять на ход вещей, улегся на дно лодки и закрыл глаза. «А вот перламутр, – вспоминал он про себя не спеша, – происходит от слова pearl, что значит жемчуг, и слова mutter, что значит мать, не зря же по-английски это будет mother of pearl, то есть мать жемчуга… она же что? Ракушка». Не успел он додумать это нежное слово, как лодка ударилась о берег, и Митины глаза раскрылись сами собой. Он встал и увидел, что фигура на носу перешагнула борт лодки и вылезла на берег, составленный из такого же фонтанирующего цветом и оттенками материала. Вылез вслед за фигурой и Митя, и уже когда нога его готовилась упереться в землю, он понял, что принял за перламутр. Он вздохнул и схватился за грудь. Странный спутник повернулся к нему, и Митя узнал Страттари – однако верхняя часть его лица была прикрыта маской.
– Что это? – спросил Митя неровным голосом.
– Это отмель Масок, – ответил Страттари, улыбнувшись той странной улыбкой, которой улыбается Венеция вот уже больше тысячи лет. – Выбирайте себе лицо.
– Я не… могу, – жалобно сказал Митя. – У меня уже есть.
Страттари замолчал. В его молчании было что-то схожее с молчанием Заказчика. Но когда переставал говорить тот, создавалось впечатление, что стоишь перед летящим на тебя поездом с отключенным звуком. Когда же замолкал Страттари, казалось, что ты во всем мире остался один. Это ощущение Мите не понравилось. Кроме того, у него появилось острое подозрение: чтобы попасть в привычный мир, ему придется выбрать маску из тех, что лежали под ногами. Митя вылез из лодки и опустился на колени.
– Я не хочу топтать их, – пожаловался он. Страттари подошел на шаг ближе, и что-то под его ногой издало негромкий, но душераздирающий треск. Он улыбался.
– В таком случае я могу лишь предложить выбирать быстрее. Не переживайте, Митя. Все равно все эти маски мертвы: их владельцев давно уж нет.
– Неправда, – покачал головой Митя. – Вы специально так говорите… вы демон. – Он сказал это без обвинительных интонаций, как бы просто констатируя факт. Страттари пожал плечами, а Митя поднял одну маску и посмотрел на нее. Не наполненная лицом и лишенная тела, которое бы двигало ее в богатстве трехмерного пространства, маска все равно не выглядела жалкой, а, напротив, усмехалась так, как будто поставила ногу на горло какому-нибудь королю. Она была белой, на треть расписана удивительной красоты серебряно-алым узором и обрамлена фонтаном искр и огненно-красных перьев. Митя приложил маску к лицу. Страттари удовлетворенно кивнул.
Митю закрутило, в голове у него взорвались тысячи воздушных шаров, его понесло с головокружительной скоростью по уходящим под гору тайным дорогам, меж неизвестных верстовых столбов истории, и он увидел, что…
…Стоял февраль. По меркам других, менее избалованных стран этот февраль мог считаться теплым и располагал бы к ворчливым рефлексиям о необратимых изменениях климата. Но сюда второй месяц зимы принес слишком много холода, снега и хитрых невоспитанных ветров – они затаивались в узких косых улицах и атаковали внезапно, с присвистом, вздымая холодную порошу. Венеция замерзала – некоторые каналы у берегов облепила наледь, и лишь благодаря мастерству гондольеров похожие на скользких угрей лодки по-обычному бесстрастно ныряли под низкие мосты и входили в крутые повороты.
– C’est une hiver rigoureux[25], – покачал головой Страттари и потер руки. Они стояли на мосту и смотрели на Большой канал. Спутник Страттари был в маске-бауте. – Иногда мне кажется, что я вижу в воде кристаллы льда, а стены домов покрыты еловыми полосами инея.
– В таком случае, – неожиданно охотно отозвался его спутник, – вы, мой друг, должно быть, смотрите в будущее, и, как бывает с любым прорицателем, слова ваши не найдут в моем сердце отклика. Лишь потом, возможно, когда стужа усугубится и хрупкими иглами пронзит даже самые теплые сердца, я взгляну на холодные фасады наших домов, что слепой чередой выстроились над каналом, и со стоном скажу, хрустя замерзшими суставами: «О, дьявол Страттари был прав! Венеция, ты замерзла». Скажите, Страттари, отчего у домов вваливаются глаза?
Страттари обернулся и, встав к каналу спиною, облокотился о стену моста, и сложил руки на груди.
– От того же, от чего и у людей, – ответил он, помедлив. Под ними по каналу прошелестела гондола.
– А от чего у людей? – упорствовал человек в маске.
– Человеку в маске нельзя говорить самого главного, – улыбнувшись, сказал Страттари. – Вы же знаете.
Bauta замолчала. Молчал и Страттари. Так прошло несколько минут. Мимо них по мосту проходили люди, и многие были в масках или даже в костюмах, а спутник Страттари уверенно здоровался с некоторыми встречными, как будто ему не составляло труда видеть сквозь маски.
– Пойдемте же, – через некоторое время предложил он. – Я стекленею. Уверен, мы стоим с вами на самом ветреном месте в Венеции. – Он обернулся, но Страттари пропал. Человек остался на мосту один. Тишина атаковала его, окружив призрачным конвоем. Поежившись, человек поискал Страттари глазами, и, не найдя, счел за лучшее оставаться на месте. Уперев замерзшие ладони в перила, он принялся вглядываться в далекие фасады, освещенные разнообразным многоцветьем балов, дружеских попоек и просто ничему не обязанного веселья.
Человеком был Митя, которого, впрочем, звали здесь совсем иначе. Он стоял на мосту над Большим каналом совсем один и мирно размышлял в неприкосновенности того холодного покоя, который сообщается человеку тремя составляющими: маской, вечером и зимой. Однако ему было суждено недолго оставаться в одиночестве. Уже через минуту тот, кем он стал, с ленивым удивлением поймал себя на том, что непринужденно беседует с кем-то, чье лицо закрывала маска чумного доктора. Говорил в основном собеседник, и, судя по все нарастающей громкости его восклицаний, он был чрезвычайно недоволен. Человек в довольно непринужденных выражениях обвинял бауту в том, что он, bauta, то есть Митя… не имеет никакого права вмешиваться в его семейную жизнь, которую он наладил с таким трудом, утверждая, что талант, по Митиному мнению, оправдывает любые безобразия и любую безнравственность. Митя опомнился и принялся защищаться – говорил, что любовь есть чувство зыбкое и нежное, как предгрозовая тишь, и что он никогда не стал бы опускать столь возвышенное и эфемерное явление до таких грязных проявлений, как подозревал собеседник. Видимо, он рассуждал без особенного энтузиазма и сам особенно не веря себе, ибо разозленный человек в мерцающем лиловом костюме с золотом явно не был убежден его аргументами – до такой степени, что, не дав Мите закончить и трех предложений, сверкнул стилетом и вонзил его Мите в бок. Митя закричал и конвульсивно выбросил вперед руки. Руки ударились человеку в грудь, тот потерял равновесие, упал в холодную черную воду и даже не попытался всплыть. Гондол рядом не было, как никогда не бывает под рукой в нужную минуту свободного такси.