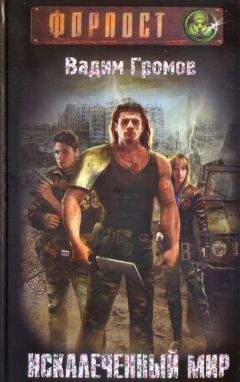Макс Сысоев - Странники
Говорил, сколько у США ракет с ядерными боеголовками.
Говорил имена предателей в той организации, где работали Женя с Ксюшей.
Говорил, кто будет для меня дороже всего.
Помню, Ксюша спросила:
— Когда вы встретитесь?
А я ответил:
— Мы встретимся невозможной весной.
И когда я сгину в ночи, я тоже говорил.
Помню, Ксюша спрашивала про вещи, о которых любому человеку рассказывать было бы невыносимо, и я пытался сбежать. Тогда Ксюша превращалась в гигантского зелёного таракана, с огромной, доступной лишь членистоногим, скоростью обгоняла меня и, отрезав путь к бегству, вновь превращалась в человека. По её прихоти я вновь говорил.
Целую вечность. Как минимум, сто лет.
— Я, — сказала под конец Ксюша, — я тебя отпускаю.
***
В общем-то, на этом месте мои приключения в двадцать первом веке заканчиваются. Больше мне о Сфере Услуг и обществе Потребления поведать нечего, ибо протрезвел я уже среди других развалин, под дождём Будущего, о котором в Настоящем ничего знать нельзя.
Хотя... После моего не укладывающегося в мозгу разговора с Ксюшей был ещё один эпизод, едва ли менее бредовый и сложный для восприятия, чем описания галлюцинаций, но довольно-таки романтичный. Если Вы, любезный зритель, не чуждаетесь иррационального, я могу Вам его рассказать.
Из всего, что я чувствовал, когда действие «truth-elixir’а» начало прекращаться, я помню только дикий ужас и связанные с ним зрительные образы. После наркотического буйства красок и форм мир стал чёрно-белым, как сны шизофреника, и я боялся всего. Боялся подойти к окну: мне казалось, что за ним ходят безумные чёрно-белые прокажённые, жаждущие уволочь меня в радиоактивную пустыню. Боялся коридоров: в темноте ко мне из пола и стен тянулись маленькие уродливые младенческие ручки, а из глубины — две другие руки: длинные, ревматические, старческие.
Я боялся даже собственного языка: он представлялся мне распухшим клубком змей, который невозможно выплюнуть.
Мой ужас был тесно связан с недостроенной фабрикой. С Зоной. Я был твёрдо уверен, что как только выберусь за её пределы, всё встанет на место. Эта idée fixe не давала мне останавливаться. Заставляла идти. Ползти. Шатаясь, падая, ударяясь об углы, держась за стены, покрытые уродливыми, сотканными из теней руками.
Впервые я напился так, что не мог отличать реальность от бреда. Вернее, мог, но, зная, в какой стороне реальность находится, не в силах был переключить на неё органы чувств.
Всего выше стоял страх умереть от интоксикации. Столько алкоголя, гашиш, «эликсир правды»... Последний, кстати, мог оказаться обыкновенным ядом от тараканов с галлюциногенными свойствами, — я понимал это даже тогда.
Я выбрался из здания и тут же угодил в канаву с обледеневшими краями. Долго не мог из неё выкарабкаться, постоянно скатываясь на дно. Молился, ругался, хныкал и повизгивал от ужаса. Канава походила на помойную яму, вырытую нечистой силой, специально чтобы хоронить в ней все благие начинания бедных поэтов, ежели таковые когда-либо существовали в природе.
Не считая поднимаемого мною истеричного шума, вокруг, насколько хватало слуха, торжествовала тишина.
Боясь оглядываться, я таки добрался до пролома в ограде заброшенной стройки, пролез в него.
И отпустило.
Я упал на железнодорожную насыпь.
***
Именно тогда я полюбил валяться на рельсах.
Я лежал и лежал. Засунул два пальца в рот. И, ликуя, снова лежал, как тот алкоголик, который «фу-фу». Лежал и лежал. Разглядывал облака. Немного посмеялся.
Посмотрел на сотовый телефон, желая узнать время, но тот вместо часов и минут показал: «¿Ð:əĦ», — совершенно невнятные символы. В голове крутились слова Женечки: «Смотри, как темно в небе! Наверное, уже очень-очень поздно, и мы опоздали куда только можно».
Не противясь самопроизвольному повторению в мыслях этой фразы, я поднялся.
Железная дорога улетала вдаль в обе стороны, и можно было идти куда угодно. Лучше в Москву, на запад, к закату.
Полночная вьюга смела снег со шпал — шагать было легко. Настроение портила лишь моя скверная привычка испытывать похмелье после ночного кутежа не наутро, а часа так в четыре ночи. Голова раскалывалась. Хотелось выпить рассола, а после выкинуть её на помойку.
Дорога тем временем странно изменилась. Рельсы стали ржавыми, как будто по ним не ездили лет сто, электрические провода провисли. Порванный обесточенный кабель зацепил мою шапку.
Не мыслями, а чем-то другим — тем, что соображает даже во время пьяного сна, — я понял, что пошёл не в ту сторону, попал на сортировочный узел и, сам того не заметив, свернул на один из отходивших от него путей.
Оглядевшись, я изо всех сил попытался вспомнить, что это за место, и как я здесь очутился.
Насыпь опустилась до уровня земной поверхности. С одной стороны серела ограда Зоны; здания за ней виделись под таким диким углом, что я засомневался. Та ли это Зона?
По другую сторону был точно такой же забор, за ним лежали сугробы и где-то вдали различались городские дома, казавшиеся с такого расстояния не больше спичечных головок.
Пройдя немного назад, я увидел на ограде Зоны смутно знакомое граффити. «Оно, — лихорадочно вспоминал я, — оно, по идее, должно быть… должно быть… да, здесь ему и место! Правильно я шёл, нечего голову забивать!»
***
— Ксюша, ты что здесь делаешь?! — воскликнул я, едва не споткнувшись о девушку, лежавшую на рельсах. — Куда Игорь делся?
— Подсел на героин и умер.
— А Женя?
— Женю изнасиловали и убили.
— Кто?
— Гопники. Ты не поможешь?
Я подал Ксюше руку, и она поднялась.
— Чёрный юмор у тебя, — решил я, подумав: «Разбежались кто куда. А Ксюша тут упала».
— Теперь не простишь им, что бросили... — сказал я вслух.
— Тихо! Слышишь? — Едут.
Рельсы загудели, защёлкали провода, застучали колёса. Поезд надвигался медленно, он был незнакомой конструкции, с ромбовидным передом. С его обшивки стекало и капало на рельсы золотистое машинное масло — его потёки я уже видел, когда стоял на станции с Игорем и барышнями, дожидаясь электрички до Зоны.
Поезд надвигался; за зеркальным лобовым стеклом белого локомотива ничего невозможно было различить.
— Не двигайся, — предупредила Ксюша. — Они мирные. Они остановятся.
Поезд остановился перед нами со скрипом, слегка качнувшись на рессорах, как затормозивший автомобиль.
— Поедешь? — Ксюша тронула меня за локоть.
— Куда?
— В никуда. Это не наш поезд, не человеческий.
— Как это?
— Не знаю. Это невозможно понять. Просто, на дорогах всегда рано или поздно появляется что-то, что неподконтрольно их создателям. Что-то извне. Железные дороги, они все связаны между собой. Это миллионы километров. Это не может принадлежать одним людям. Давай, поехали с нами в никуда.
— Нет, Ксюша, извини, мне... домой надо. Я туда пешком дойду. А ты поезжай в своё никуда.
— Зря отказываешься. Ты не найдёшь в той стороне ничего хорошего.
Ксюша сошла с путей, встала сбоку от первого вагона странного состава. Перед ней отворилась дверь — отодвинулась вверх, как в звездолёте из фантастического кино, — и открыла моему взгляду тамбур: чистенький, серенький, освещённый как будто бы полуденным солнцем. Только потолок низковат.
Из-за забора послышались звуки милицейской сирены, тихие, утопающие в снегу.
— Их выслеживают. Как обычно, хотят препарировать то, что не понимают.
Издали неслась электричка. Пригородная. Зелёная. Человеческая.
— Ты едешь или нет?
— Это надо обдумать. А я пьян. Я и так столько натворил сегодня...
— Я не обижаюсь. Но — мне пора. Я уезжаю.
Она встала на подножку вагона.
— Я не уеду далеко. Я буду рядом. Я всегда рядом.
Дверь закрылась за девушкой, похожей на политическую карту мира. Белый поезд разогнался и полетел навстречу зелёной электричке. Я упал на снег, надеясь, что так можно будет спастись от последствий их столкновения, однако столкновения не произошло.
— ТУУУУУ!!! — взвыл гудок электрички, а белый поезд на полном ходу словно бы вошёл в неё, как призрак в стену. А с другой стороны не вышел — исчез по пути к точке «Б», которой нет в помине.
Поднимая позёмку, электричка умчалась к точке «А». Лишь на снегу меж рельсов остались тонкие потёки золотистого машинного масла.