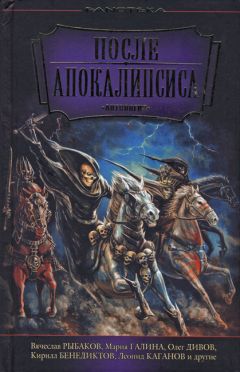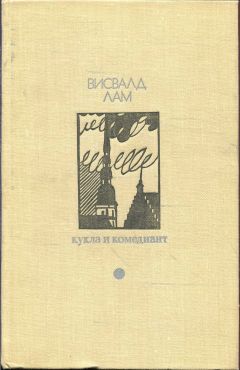Виктор Колупаев - Сократ сибирских Афин
— Какие могут быть у меня деньги? Я — Бог!
— Тогда не достать, — сказал я. — Разве что у Сократа занять…
— Откуда у Сократа деньги? — возразил Дионис. — В этом смысле он тоже — Бог.
— Не кощунствуй, — попросила Ариадна.
— Да я не в этом смысле, — начал оправдываться Дионис, — а в том, что денег-то у него отродясь не бывало. Что же делать? Может, к философу Критону сходить? У него всегда есть запас. А может, и гонит сам.
— Глобальному человеку может и не дать, — предположила Ариадна.
— Точно, — согласился Дионис. — Глобальному человеку он ни за что не даст. А мне отольет.
— Куда это ты засобирался? А я с детьми одна на Болотах останусь?
— Глобальный человек присмотрит за детьми, — предположил Дионис.
— Нет. Я тоже страсть как хочу выпить, — сказал я.
— Может, Каллипигу тебе прислать? — спросил Дионис у жены.
— Каллипигу можно, — легко согласилась Ариадна.
— Тогда пошли, — сказал Дионис, отлепил мокрую тряпку ото лба, встал, подержался рукой за сердце, привел себя в более-менее приличное состояние, и мы вышли в ночь.
Дионис ориентировался на своем болоте хорошо, видать, давно уже проторил дорожку. В Сибирские Афины мы вошли снова через “одностенные” Сократовские сараи. Подошли к забору, разделявшему владения Сократа и Критона. Я хотел, было, подсадить бога, но тот просто пнул полусгнивший заборчик и прошел по нему, как по тротуару, к крыльцу каменного коттеджа. Я осторожно постучал в дверь, а Дионис раза два ударил кулаком.
— Каку холеру надо? — раздалось из чрева дома.
— Критон! Это я, Дионис. Отовариться бы надо.
— Сейчас, сейчас.
Торопливо защелкали замки, запоры и щеколды, и на пороге появился заспанный философ.
— В себе понесете или в тару налить? — радостно спросил он.
— Давай в тару, — сказал Дионис. — В себе-то много ли унесешь?
— Сейчас, сейчас…
А там, за ним, в темноте коридора уже что-то булькало и переливалось.
— Запиши в долг, — сказал Дионис Критону. — Потом отдам.
— В долг, в долг, а как же! — продолжал радоваться Критон и передал Дионису объемистую бутыль, но не четверть, это точно.
— Пошли. Каллипига у Сократа? — спросил бог.
— Была у него.
Мы и к Сократовой хибаре подойти не успели, как Каллипига уже стояла перед нами.
— Ничего, если я к Ариадне зайду? — спросила она у Диониса.
— В самый раз, Каллипига, — ответил бог и затем обратился ко мне: — Может, Сократа возьмем третьим?
— Как не взять? — ответил я. — Обязательно надо взять его третьим.
Сократ, оказывается, еще не ложился спать. Но в дом мы заходить не стали, а расположились на завалинке.
— Тогда начнем, — сказал Дионис и отпил из горлышка первым.
— По правилам первины богу… — начал, было, Сократ, но Дионис его перебил:
— Какому богу? Ты что, Сократ, сдурел! Критону надо совершить возлияние, а не мне. Да и ему не надо. Чего тратить влагу.
Третьим хлебнул я.
Разговор как-то не клеился. Может, потому что мне не очень хотелось этого…
— Дела, — наконец сказал Дионис. — Хочешь, как лучше, а получается, как попало.
— В том-то и дело, — согласился Сократ.
Помолчали. Приложились еще по разу.
— Вот ты, Сократ, брата моего, Аполлона, весьма почитаешь, — сказал Дионис несколько раздраженно.
— Это так, — согласился Сократ, — хотя, как видишь, я и тебя весьма почитаю.
— А ведь почитать Аполлона, это все равно, что почитать стихию сновидения. Это прекрасная иллюзия видений и уж, конечно, тайна поэтических зачатий. — Похоже было, что Дионис имел какие-то претензии к Аполлону. — Подумаешь, радостная необходимость сонных видений, наслаждение в непосредственном уразумении образа, все формы которого говорят людям, вроде бы, нечто важное и в котором, уж конечно же, нет ничего безразличного и ненужного! Так ведь вы, люди думаете об Аполлоне?
— Именно так, Дионис, согласился Сократ.
— Но не кажется ли тебе, Сократ, что при всей жизнестойкости этого мира снов у людей все же остается еще ощущение его иллюзорности?
— Ты прав, Дионис. Мне все время кажется, что под этой действительностью, в которой мы живем и существуем, лежит скрытая, вторая действительность, во всем отличная от первой.
— Следовательно, первая только иллюзия, — не то спросил, не то сказал утвердительно Дионис.
— Попытаюсь объяснить. — Сократ мгновение собирался с мыслями. — Дар, по которому человеку и люди, и все вещи представляются только призраками и грезами, считается признаком философского дарования. Хотя я-то, как ты знаешь Дионис, вовсе и не отношу себя к философам. Так вот, как философ относится к действительности бытия, так художественно восприимчивый человек относится к действительности снов. Он охотно и зорко всматривается в них, потому что по этим образам он толкует себе жизнь и на этих событиях готовится к жизни. — Сократ посмотрел на меня и добавил: — Правда, к глобальному человеку это пока не относится.
А я-то тут был при чем?!
— Прекрасную и беспечальную жизнь уготовил вам Аполлон, — с нескрываемым сарказмом сказал Дионис.
— Но не одни только приятные, ласкающие образы являются человеку в такой ясной простоте и понятности, — продолжил Сократ. — Все строгое, смутное, печальное, мрачное, внезапные препятствия, насмешки случая, боязливые ожидания, короче — вся “божественная комедия” жизни, вместе со всякой чертовщиной, проходит перед ним не только как игра теней, — потому что он сам живет и страдает как действующее лицо этого представления, — Но все же не без упомянутого мимолетного сознания их иллюзорности. И быть может, многим, подобно мне, придет на память, как они в опасностях и ужасах сна подчас не без успеха ободряли себя восклицанием: “Ведь это — сон! Что ж, будем грезить дальше!”
— Итак, — сказал Дионис, — Аполлон — бог не только сновидения, но и прекрасной иллюзорности, как бы прикрывающей некую невидимую вторую действительность.
— Так, Дионис, — сказал Сократ и протянул богу значительно полегчавшую бутыль.
Дионис отпил из горлышка и одобрительно крякнул, но мне почему-то показалось, что его одобрение относилось не к словам Сократа, а к крепости самогона.
А Сократ как ни в чем ни бывало продолжал:
— Аполлон — бог вообще всех сил, творящих образами, а кроме того, он — вещатель истины и возвещатель грядущего. Он, как божество света, царит и над иллюзорным блеском красоты во внутреннем мире фантазии. Высшая истинность, совершенство этих состояний в противоположность отрывочной и бессвязной действительности дня, глубокое сознание врачующей и вспомоществующей во сне и сновидениях природы, представляет в то же время символическую аналогию дара вещания и вообще искусств, делающих жизнь возможной и достойной.
Дионис не спеша прикладывался к бутылке и не перебивал Сократа.
— Аполлон дает чувство меры, соразмерности, упорядоченности, мудрого самоограничения.
Тут, кажись, даже Ксантиппа не выдержала и проснулась, но выходить не стала, а лишь поддержала Сократа голосом из окна.
— Уж этого мудрого самоограничения, когда вы хлещете самогонку, у вас хоть отбавляй!
Дионис не поперхнулся, Сократ не сбился с мысли.
— Та тонкая черта, — спокойно продолжил он, — через которую сновидение не должно переступать, из-за опасности обратиться в болезненное явление, — потому что тогда иллюзия обманула бы нас, приняв вид грубой действительности, — это и есть полное чувство меры, самоограничения, свободы от диких порывов, мудрый покой бога — творца образов. Его око, в соответствии с его происхождением, — солнечно. Даже когда он гневается и бросает недовольные взоры, благость прекрасного видения почиет на нем.
— Ага, — сказал Дионис, — даже тогда, когда он кожу с соперника содрал на музыкальных состязаниях, которые сам же и затеял… Конечно, что обо мне говорить. Я ведь полная противоположность солнечному Аполлону даже внешне. Он — рыж, солнечен, то есть, а я — черен, как ночь. Вместо успокоительной стройности и мерности внушенных Аполлоном созерцаний, у меня только сомнения в них и даже уничтожение этого милого и мудрого любования сновидческими формами. Чудовищный ужас, который охватывает человека, когда он усомниться в формах познания явлений, характерен для, так вами называемого, дионисийского состояния.